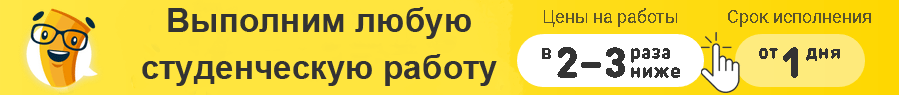Маргиналы и их социальные интересы
Московский государственный авиационный институт
(технический университет)
Реферат
по курсу « Политология ».
Маргиналы и их социальные интересы.
Выполнил студент гр.*****
***************
Проверил Студников П.Е.
Москва 2002г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Вступление………………………………………………………..…2
2. Маргинальное искусство……………………………………………3
3. Маргиналы в политике…………………………………………………..14
4. Философы и маргиналы……………………………………………16
5. Маргинальность и право…………………………………………..18
6. Список использованной литературы……………………………..21
Очень общим образом скажем,
что нормальность есть общепринятость
и вытекает на капитуляции.
Мишель Тевоз.
То что мы именуем нормальным» является результатом подавления, отречения, разъеди-
нения, распада, проекции, интроекции и про-
чих разрушительных форм воздействия опыта.
Рональд Д Ленг.
1.ВСТУПЛЕНИЕ
Понятие маргинальности служит для обозначения пограничности, периферийности или промежуточности по отношению к каким либо социальным общностям (национальным, классовым, культурным). Маргинал, просто говоря, «промежуточный» человек. Классическая, так сказать, эталонная фигура маргинала человек, пришедший из села в город в поисках работы уже не крестьянин, еще не рабочий; нормы деревенской субкультуры уже подорваны, городская субкультура еще не усвоена. Главный признак маргинализации разрыв социальных связей, причем в «классическом» случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. При включении маргинала в новую социальную общность эти связи в той же последовательности и устанавливаются, причем установление социальных и духовных связей как, правило, сильно отстает от установления связей экономических. Тот же самый мигрант, став рабочим и приспособившись к новым условиям, еще длительное время не может слиться с новой средой.
В отличии от «классической» возможна и обратная последовательность маргинализации. Объективно все еще оставаясь в рамках данного класса, человек теряет его субъективные признаки, психологически деклассируется. Ведь деклассирование — понятие прежде всего социально-психологическое, хотя и имеющее под собой экономические причины. Воздействие этих причин не является прямым и немедленным объективно выброшенный за пределы пролетариата безработный на Западе не станет люмпеном, пока сохраняет психологию класса и прежде всего его трудовую мораль. У нас в стране нет безработицы, но есть деклассированные представители рабочих, колхозников интеллигенции, управленческого аппарата. В чем их выделяющий признак? Прежде всего в отсутствии своего рода профессионального кодекса чести. Профессионал не унизится до плохого выполнения своего дела. Даже при отсутствии материальных стимулов настоящий рабочий не сможет работать плохо — скорее он откажется работать вообще! Физическая невозможность халтурить отличает кадрового рабочего-профессионала (так же как и крестьянина, и интеллигента) от деклассированного бракодела и летуна.
2. МАРГИНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Конец XX века отмечен интересом к маргинальным явлениям, существующим в особом внекультурном пространстве со своими, отличными от общепринятых, критериями суждений и оценок, мотивов поведения, представлениями о вкусе и художественном творчестве. Самой благодарной областью для исследования маргинальных явлений является маргинальное искусство, про которое сразу можно сказать, что в нем «все не так».
Если культура это прежде всего проективное сознание (признаки деятельность, творчество, профессионализм), оперирование вновь созданными artefact-ами и приверженность классическим нормам, то маргинал займет место в самой удаленной точке от этого культурного поля. Несколько ближе, но в целом также далеко разместится художник-постмодернист. Близко и уютно по отношению к культуре будет чувствовать себя только представитель модернизма. Но и здесь, в модернизме, работали художники, с трудом укладывающиеся своим творчеством в очерченные культурные рамки. Нельзя не учитывать, что и сама культура, по отношению к которой столь решительно дистанцируется маргинал, включает в себя помимо уже названного элемент творчества как открытие нового, нетривиальность мышления и оригинальные суждения, смелость вкуса, что исключает нормативность, один из основных культурообразующих признаков. Отсюда следует, что маргинала не так просто выключить из культуры, которая сама будто бы насыщена элементами маргинальности.
При всем своеобразии данного явления черты его угадываются, а иногда читаются «открытым текстом» у некоторых общепризнанных художников и в популярных философских дискурсах второй половины XX века. Здесь уместна аналогия с «интенсивностями» и «телами без органов» Ж. Делеза и Ф. Гаттари, дисперсными полями Ж. Бодрийяра, коннотациями Р. Барта, деконструкцией Ж. Деррида. Как и художники-постмодернисты, маргималы своим творчеством ставят вопросы, на которые трудно получить ответ «Где произведения? Кто автор? Кто зритель? Кто смотрит, а кто подписывает?»
Еще древние греки пришли к выводу, что для создания произведения искусства (понимаемого ими предельно широко) нужны всего две вещи мастер-профессионал и материал будущего произведения искусства. Эта схема безукоризненно работала в западной художественной культуре более двух тысяч лет. И лишь в последнее время было замечено, что профессионализм оставляет на произведении печать навыка, монотонно кочующего из произведения в произведение, а материал имеет склонность изживать себя. Пока это не было замечено, маргинальность была неактуальна.
Из чего состоит маргинальное искусство? Отвечая на этот вопрос, следует прежде всего выделить довольно многочисленную группу художников-аутсайдеров, в которую входит либо тот, кто изолирован от общества, либо живет на периферии общественных интересов, либо попросту забыт обществом. В этой группе называют душевнобольных, как наиболее интересных и плодотворных в творчестве, далее упоминают заключенных, отшельников, одиноких и стариков. Наряду с ними существуют художники, формально не изолированные от общества, но по манере творчества близкие аутсайдерам. Это дети, примитивы и наивы. Всех вместе мы и можем назвать художниками-маргиналами, закрепляя за ними главный и решающий признак творчество вне эстетических и художественных норм.
Если выйти за границы перечисленного, то сразу обнаружится отчетливо выраженная неустойчивость рассматриваемого феномена. Нередко рожденное как культурная и художественная аномалия, постепенно, по мере характерной для последнего времени либерализации культуры, становится нормой и теряет качество маргинальности. Так, по свидетельству Р. Барта, еще недавно к маргиналам относили детей, стариков, преподавателей университетов. Имелась в виду их схожая манера, вызванная, правда, различными причинами, многократно перечитывать одно и то же художественное произведение. Прошло время, эта манера утвердилась в качестве нормы чтения, если двигаться в этом процессе от денотативных связей к более глубоким коннотативным. В искусстве известен маргинальный по всем признакам опыт В. Ван Гога писать картины, не прибегая к кисти и палитре — основному инструментарию, обеспечивающему образную выразительность, почерк, манеру и индивидуальность художника, хотя на самом деле это не было продиктовано стремлением Ван Гога быть маргиналом в искусстве. Работая над этюдом на plein-air-e и желая сэкономить время, день клонился к закату и природные цвета гасли, художник выдавливал краски на холст прямо из тюбика. Таким образом, он выполнил несколько своих работ, теперь ставших классикой раннего модернизма. Для науки об искусстве этот прецедент оказался более значимым. Он открыл в изобразительном искусстве эру умирающего в своем творчестве субъекта- творца.
В философии существует несколько иное понимание смерти субъекта, навеянное разработками в семиотике и практикой художественной литературы. Субъект-творец литературного произведения, по Р. Барту, умирает как единоличный автор своего произведения. Само произведение размывается, становясь текстом, за счет множества неподвластных автору коннотаций (прочтений) данного произведения. Изобразительное искусство дает другую, более радикальную версию того же процесса. То, что сделал Р. Барт с «Сарразином» Бальзака — произведением «для ума», невозможно сделать с произведением «для глаза», а наравне с ним с произведениями поп-арта, с хепппенингом, перформансом, даже с концептуальной поэзией. Субъект «умирает» здесь отнюдь не по законам коннотаций. Его «смерть» обусловлена добровольным отказом выражать себя, как мастера, в материале. Художник как бы предоставляет право выражения самому материалу. Роль художника (и немалая) сводится только к поиску такого материала. Бартовский коннотативный вариант смерти субъекта затрагивает лишь малую часть обширной философской темы молчащего (выключенного) субъекта, которую можно найти в проповедях Мейстера Экхарта и мистических учениях, в искусстве и верованиях русского православного исихазма.
Еще выразительнее популярная сегодня тема смерти субъекта в изобразительном искусстве была заявлена в начале XX века при изобретении коллажа. Поместить на холсте инородный искусству объект фрагмент газеты, игральную карту, коробку от папирос, что делали в своих коллажных опытах П. Пикассо и Ж. Брак, было в то время настоящим вызовом эстетике и искусствознанию. Это опрокидывало все сложившиеся представления о художественном произведении, творческом субъекте, профессионализме в искусстве и было маргинальным по духу явлением. Но прошло время, и появился поп-арт, придавший объектному искусству статус культурной и художественной нормы.
В музыке симфонический авангард отличается от симфонической классики примерно равным сочетанием звука и паузы (молчания). Так считал Э. Денисов, композитор, необычайно чуткий к живописи. К сказанному он добавлял, что у других, еще более радикальных музыкальных авангардистов, чем он сам (например, у Дж. Кейджа), звук занимает еще меньше места в сравнении с паузой. Мы видим, что и здесь, в музыкальном образе без звука, столько же маргинального, ставшего художественной нормой, сколько в живописном произведении, выполненном без кисти и палитры, или в практике коллажного искусства.
Просто и остроумно решал проблему маргинальности П. Клее. Желая лучше понять, как работают дети и душевнобольные, художник иногда перекладывал кисть или карандаш из правой «обученной» руки в неиспорченную навыком левую, автоматически становясь маргиналом. «Левая» рука выводила Клее и на более серьезные проблемы. Убежденных в том, что между письмом и изображением нет принципиальной разницы, он много сил тратил на изобретение фантастических в своем сочетании формально-знакового и изобразительного алфавитов, экспериментировал с заглавными буквами. И сегодня полна загадок и тайн его акварель «Орден прописной буквы С» (1921). Героическую попытку П. Клее вернуться к исходному праязыку, из которого последующая культура так бесцеремонно изгнала изобразительность, можно сопоставить лишь с синестезийными опытами в области поэтического и разговорного языков, проводимыми в конце XIX и начале XX веков А. Рембо, С. Малларме, А. Крученых, В. Хлебниковым.
Несколько другими гранями повернуты в сторону маргинальности выдающиеся русские художники М.Врубель и М.Шагал. Известно, что Врубель страдал душевной болезнью, но никто до сих пор не изучал, насколько менялось творчество художника в процессе болезни. Если можно так выразиться, «завуалированная маргинальность» Врубеля состоит, видимо, в недописанных фрагментах некоторых его картин, встречающемся упрощении живописного языка отдельных его произведений. Марк Шагал, напротив, в здравом уме и трезвом рассудке сознательно спускался с высот ученого профессионального творчества на уровень безыскусной наивности и простоты выражения в своих картинах. Окунувшись в наивность, он оказывался причастным к маргинальности как одному из наиболее интересных альтернативных направлений современной художественной культуры.
Болезненно остро представлены политическая и сакральная темы в маргинальном искусстве. Даже если эти темы заявлены знаменитыми и признанными художниками, но в маргинальном ключе, культура не спешит переводить их творения в разряд художественной нормы, как это обычно бывает. В 1937 году Сальвадор Дали создал инсталляцию «Воспоминание о Ленине». Произведение отвечало всем требованиям жанра и было подлинным открытием, опередившим время на 30—40 лет.
В 1986 году другой признанный сегодня художник Энди Уорхол выставил в галерее современного искусства в Милане серийную копию «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи. Картина представляла собой точную живописную версию знаменитой фрески, но с той разницей, что у Э. Уорхола на одном полотне, в одной и той же раме располагались два одинаковых изображения Иисуса Христа и апостолов, один под другим. Результат не заставил себя ждать. Специальным постановлением Ватиканской католической церкви картина была квалифицирована как кощунство и надругательство над чувством верующего, которому художник как бы предлагал молиться сразу двум одинаковым образам. Проклятье церкви не снято с художника и сегодня.
Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в России в конце 1997 года при демонстрации по НТВ фильма Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа». Отметим лишь, что М. Скорцезе является крупнейшим кинорежиссером второй половины XX века. Его имя стоит в одном ряду с именами И. Бергмана, П. Гринуэя, Ф. Копполы, А. Куросавы, С. Спилберга, Р.-В. Фасбиндера, В. Херцога.
После Э. Уорхола и М. Скорцезе отечественный опыт маргинального решения христианской темы уже не содержит прежней остроты в подаче материала. Так мало кто почувствовал и по достоинству оценил достаточно сильный маргинальный ход Е. Семенова, представившего на своей выставке «Семь библейских сцен» в галерее М. Гельмана (март 1998 года) разыгранные исполнителями-даунами сюжеты известных произведений «Благовещение» Ван Эйка, «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, «Поцелуй Иуды» и «Сон» Джотто, «Что есть истина?» Н. Ге. Исполненные сюжеты были отсняты на пленку и оформлены в виде картин, которые и предлагались зрителям в экспозиции. Известно, что богоугодные — это, прежде всего слабые, больные, искалеченные люди. Среди них дауны к богу должны быть ближе всех; ведь слабость, кротость и смирение это признаки самой болезни дауна. Им-то и доверил художник воплощение на сцене классических библейских сюжетов.
Настоящей маргинальностью по-русски, с размахом, множеством взаимоисключающих оценок, съемками ТВ, откликами в газетах и журналах, но, к счастью, без сквернословия и мордобития прошла презентация акции «Мавзолей (ритуальная модель)» Ю. Шабельникова и Ю. Фесенко в галерее «Дар» (30 марта 1998 года), куда был приглашен и автор настоящих строк. Собственно активной стороной акции было поедание тела В.И. Ленина, изготовленного из торта. В пресс-релизе акции говорилось «Заканчивается XX век и вместе с ним Ленин, переходящий в разряд универсальных культурных знаков, которыми оперируют независимо от политической или нравственной позиции. К Ленину больше неприменим эпитет «выдающийся» (злодей, гений, политик, учитель и т.д.). Это и составляет основу внутреннего конфликта большинства из нас на пороге III тысячелетия самая актуальная на протяжении нашей жизни фигура окончательно уходит в сферу истории, искусства и культуры».
Отважившиеся прийти на акцию, словно в эксперименте, могли на себе почувствовать присутствие или, наоборот, отсутствие маргинальной ауры. Какая-то часть приглашенной публики отнеслась к акции абсолютно серьезно. Поэтому процедура поедания тела их могла только шокировать, и маргинальное чувство обошло их стороной. Другая, более ироничная часть приглашенных включилась в акцию как игру и с удовольствием уплетала аппетитные кусочки, запивая их вином или соком. Самые же «продвинутые» зрители по достоинству оценили ритуальный смысл акции, который позволял отнестись к делу одновременно серьезно и с юмором. Ритуал отсылал к языческой памяти праистории, а исполненное произведение давало понять, что перед зрителем всего лишь искусство.
Все названные примеры — это маргинальность «на время», т.е. пока устоятся вкусы, пройдет шок неприятия и все успокоится. Культура станет еще терпимее, еще эластичнее. Скрипя и чертыхаясь, она переставит колышки своих границ еще на некоторое расстояние вверх, вниз или вширь, обозначив еще более емкое и просторное поле для творческих экспериментов.
Подлинными же маргиналами, т.е. наиболее устойчивыми в сохранении своей «инаковости», дистанцированности по отношению к культурным нормам являются, как уже говорилось, художники-изгои общества — аутсайдеры, а также близкие к ним дети, примитивы и наивы. Лишь они и то в разной степени, с большей или меньшей полнотой выражают идею маргинальности.
Значительная часть атрибутивных признаков, дающих представление о маргинальном искусстве взята нами у аутсайдеров, которые и этимологически (аутсайдер, маргинал) и содержательно чрезвычайно близки.
Среди таких признаков обычно называют восторг и ликование процессом, но не результатом творчества; отсюда — аутсайдер тот, кто творит, избегая посвященности, деловитости, профессионализма, кто, к тому же, совершенно безразличен к результату. Как ни странно, но аура маргинальности настолько хрупка, что такие обычные спутники искусства, как признание, успех, аплодисменты, коль скоро они осознаны и оценены художником, действуют разрушающе по отношению к такой ауре. Через них художнику возвращается его обычное культурное состояние.
К аутсайдерному искусству неприменимо понятие диалога между произведением и его воспринимающим. Эти художники неохотно пользуются классическими материалами (маслом в живописи, мрамором в скульптуре) и с удовольствием обращаются к любому случайному, только что попавшему под руку материалу дереву, картону, коже, пластику. Аутсайдерному искусству сложно подобрать дефиницию. Не менее сложно идентифицировать такое искусство, т.е. отнестись к нему с определенных эстетических позиций (например, с позиции эмпатии). Подлинным открытием в эстетике XX века является обнаруженное бессилие психоанализа и его важнейшего герменевтического механизма — кодирования творческого процесса в терминах сублимации при подходе к маргинальным явлениям. Недееспособность психоанализа следует также рассматривать в качестве важнейшего признака аутсайдерного (маргинального) искусства.
Внутри себя аутсайдеры неоднородны, поскольку художественный талант как главный элемент творчества по разному реализуется в условиях социальной изоляции, либо отверженности. Известно, что творческих работ обитателей психиатрических больниц больше, чем аналогичных работ уголовных заключенных. Первые к тому же талантливее, или, по крайней мере, изобретательнее. В чем здесь дело? По мнению М. Тевоза многое объясняет характер изоляции “Если главное назначение тюрьмы заключается в подчеркивании ответственности заключенного, то психиатрическая больница делает все, чтобы лишить этой ответственности. Психиатрический заключенный, не знающий ничего, даже срока своего освобождения, может начать предпочитать тень добыче, по выражению Андре Бретона”. Это значит, что душевнобольной художник изначально живет в мире нереального, столь важного для развития творческого воображения.
Еще одна аутсайдерная группа — старики. Это особый, во многом загадочный тип художника-аутсайдера. Если все европейское средневековье не знало, что такое мир детства, то в конце XX века мы не знаем, что такое мир старости. Старики становятся маргиналами, поскольку они теряют главные качества немаргинальной личности волю, целеполагание и активную деятельность, необходимые для достижения поставленных целей. Кроме того, их маргинальность вытекает из парадокса с одной стороны, общество заботится о продлении жизни стариков, а с другой — необходимость в них отпала. Если раньше старики, как наиболее мудрые, многое значили в жизни общества, обеспечивая важные интегративные функции, то теперь «негодные к производству, плохие потребители, строптивые к экспансионистской идеологии, они превратились в помеху, в людей докучливых, от которых избавляются любым способом богадельнями, домами для престарелых, возведенной в институт милостыней-подачкой, моральным оставлением и оставлением просто, в прямом смысле слова».
Но старость и детство — золотой возраст маргинального искусства. Значительная часть произведений аутсайдеров и наивов создана в преклонном возрасте их творцов. Дети говорят сами за себя. Как выясняется, на данных возрастных полюсах художник меньше всего склонен работать в ритмах подражательного (репрезентативного) творчества, вокруг которого и возникло большинство эстетических и общекультурных норм. Известны случаи, когда художники, много сделавшие в рамках художественной репрезентации, с возрастом отказываются от подражательства, а вместе с ним и от общепринятых эстетических норм. Самый известный из таких случаев связан с творчеством Микеланджело Буонарроти. Почти девяностолетний старик, работая над своим последним произведением «Пьета Ронданини», непохожим на все остальное в его творчестве и близким духу маргинальности, с грустью заметил, что только сейчас он понял, что такое искусство и как следует в нем работать.
Далеко не все дети, причастные к художественному творчеству, могут быть отнесены к маргиналам. Здесь, главным образом, необученные дети, не прошедшие художественную школу по двум причинам не успели (дети до 5—6 лет) и отставшие в своем общем развитии. Достаточно легко представить себе ребенка так называемой анальной стадии полового развития, который только научился проводить линии и ставить красочные пятна, получая от этого удовольствие. Вот этот «бумагомаратель» при наличии у него природного дарования, а еще лучше таланта в области изобразительного искусства и будет самым ярким художником-маргиналом, каким его можно себе представить.
Детская маргинальность наиболее непосредственна, проста и изящна. Если можно говорить о поэтике маргинального искусства, то в первую очередь это будет творчество ребенка.
В доме ожидают гостей. Ребенок взволнован и постоянно рисует. Вот он нарисовал дорогу, по которой приедут гости. Почему же у тебя дорога на заднем плане изображена гораздо шире, чем на переднем?’
Так ведь оттуда будут ехать наши гости! При желании совсем несложно увидеть здесь то, над чем десятилетия ломали голову эстетик и искусствовед, доказывая право на деформацию в искусстве, обосновывая принципы обратной перспективы или художественного авангарда.
Наконец, примитивы и наивные художники, которые, по выражению все того же Мишеля Тевоза, одной ногой твердо стоят на территории культуры и лишь другой прикасаются (порой весьма ощутимо) к области маргинального. Это прикасание может быть различным. Здесь нередки выходы в самые глубокие слои архитипичности, завораживающе близкие по «неумелости» к детям пропорции тела и такая же «неумелая» щемящая душу деформация предметов, уровень которой в профессиональном искусстве достигали лишь такие большие мастера, как М. Шагал, П. Клее. Философа наивный художник может впечатлить ни с чем несравнимым пространством мысли (в выражении глаз, в изображении предметов).
Помимо уже названных признаков маргинального искусства, выделенных у художников-аутсайдеров, назовем еще два. Наивное искусство и детское художественное творчество имеют к ним самое непосредственное отношение. Это, во-первых, «рисую как знаю» вместо нормативного «рисую как вижу» и, во-вторых, признак дилетантизма.
Принцип творчества «рисую как знаю» широко распространен и, по существу, немаргинален. Достаточно сказать, что весь ранний модернизм, сосредоточившись на деформации предметов, исходил из этого принципа. Наивное же искусство, в отличие от других, так же использующих данный принцип, выходит на философскую категорию времени. Время благодаря умозрению, заменившему интерес к деталям и нюансировке, предстает как вечность. Если академическое искусство это всегда авангард новых стилей, стремление каждый раз взглянуть по-новому на вещи и мир вокруг себя, то наивное искусство — это мостик в прошлое, та тоненькая ниточка, которая только и может по настоящему связать нас с нашим прошлым. Пожалуй, в этом заключена основная эстетическая ценность наивного искусства.
Маргинальный художественный опыт интересен тем, что он ставит последнюю точку в процессе опрощения культуры, занявшего на Западе всю вторую половину XX века. Если культуру условно мерить шкалой ценностей от нулевой обметки до высших ценностей-идеалов, то маргинал занят обживанием самой низшей точки такой шкалы, выражаемой простейшими инстинктами и неотрефлексированными (наивными, примитивными) представлениями. Возьмем в качестве аналогии кривую энцифалографа, описывающего работу головного мозга. Этот прихотливый рисунок может быть воспринят по-разному. Врач видит в нем картину протекания болезни, эстет может впечатлиться узором и чистой формой рисунка, наделенный повышенной экспрессивностью чувств отождествит изображенное со своими душевными переживаниями. Это примеры «культурной» работы с текстом. И вот (внимание!) мы опускаемся до низшей внекультурной отметки — мы слышим скрип пера энцифалографа, видим следы марания чернилами бумаги и, переводя все это на язык простейшего физиологического опыта, получаем то, что искали — впечатление маргинала от рассмотренного изображения.
Другой подход. Выявление маргинальности на уровне языка. Лингвист Анна Вежбицкая, занимаясь языками примитивных народов, пришла к выводу, что «имеется набор семантических примитивов, совпадающий с набором лексических универсалий, и это множество примитивов-универсалий лежит в основе человеческой коммуникации и мышления, а специфичные для языков конфигурации этих примитивов отражают разнообразие культур». Таких языковых примитивов-универсалий всего несколько и в их числе «весь», «если», «потому что». В качестве примера Вежбицкая приводит диалог
Почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь ударил?
Мой брат ударил меня, потому что я потерял деньги.
Я не потому плачу, что он ударил меня. Я плачу из-за денег. И далее констатирует
«Я думаю, что на языке, в котором нет слова (морфемы, словосочетания) для «потому что», смысл этого диалога передать невозможно».
Если учесть, что за выражением «потому что» просматриваются причинно-следственные связи, то наблюдения Вежбицкой свидетельствуют об изначальном достаточно высоком уровне языкового общения человека. Можно сказать, и это подтверждают другие наблюдения, что человек обрел основательные зачатки культуры на самых ранних ступенях своего развития.
Маргинал же не различает причин и следствий (отключены «если» и «потому что»). Он далек и от того, чтобы строить образ не только на основании художественного абстрагирования (отключено «весь»), но даже по принципу элементарной сортировки и отбора впечатлений. Все это значит, что истоки маргинальности следует искать ниже самой ранней, культурной нормы.
С легкой руки маргиналов волна опрощения коснулась и некоторых культурных операций и процедур. Важнейшая для философа процедура порождения мысли как результат выведения одного из другого (например, построение силлогизма) представляется ныне чрезмерно сложной и громоздкой. Более популярным становится рекуррентный принцип повтора. Искусство было первым, где утвердился данный принцип. Ритмы рок музыки, серийная живопись целиком построены на рекуррентном принципе. Сегодня можно наблюдать настоящую экспансию рекуррентного принципа в различные системы культурных коммуникаций.
Маргинальный художник расшатывает и потрясает изобразительную систему до самых ее оснований. Здесь разрушена эсютическая дистанция, которую в культурном контексте обязательно преодолевает воспринимающий, совершая значительные усилия духовного порядка в процессе перехода от поверхностного узнавания к образному постижению художественной идеи. Эстетическая дистанция и некоторые другие звенья художественного восприятия были в свое время детального исследованы. Психологи в связи с этим предложили различать зрительное, видимое и феноменальное поля восприятия. Эстетики ввели понятие диалога картины со зрителем. В маргинальном искусстве ничего этого нет. Объект изображения здесь поменялся на его принцип, а зритель оказался полностью втянутым в пространство картины. Иногда такое состояние человека психологи сравнивают с аутизмом .
Следующий радикальный шаг маргинального искусства — отказ от репрезентаций. «Культурный художник», выражая себя или какие-либо метафизические ценности, постоянно помнит о довлеющим над ним объекте изображения, чей образ он пытается реализовать. Это накладывает серьезные ограничения на непосредственность, спонтанность и интуитивность исполнения замысла. Над художником здесь довлеет сознание того, что он является творцом как бы наполовину. Медвежью услугу ему оказывают и, казалось бы, идеальные материалы — масло в живописи, мрамор в скульптуре. На самом деле масло и мрамор идеальны лишь в осуществлении идеологии репрезентативного искусства, но отнюдь не в реализации творческого потенциала художника как такового. Здесь можно сослаться на опыт французского художника из Бордо П.-Д. Мезоннева (1863—1934), который, экспериментируя с ракушками, создал через выражение лица философский образ “Вечной неверности», способный конкурировать по глубине и исполнению замысла с репрезентативным искусством самого высокого уровня”.
До сих пор считалось, что процесс опрощения (банализации, вульгаризации) культуры был подготовлен и осуществлен искусством второй половины XX века. И действительно, постмодернизм совершил подлинную революцию в эстетических представлениях. Здесь произошла замена базовых эстетических принципов, на которых строилось все классическое и раннемодернистское искусство, таких как; условность, форма, стиль, уникальность. С таким же размахом это до сих пор трудноперевариваемое искусство реабилитировало дилетантизм и эклектику — постыдные в прошлом явления всегда, правда, сопутствующие искусству. Высокая метафизика в сфере эстетики и искусствознания, так называемые основные эстетические категории прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое, вдруг обрушилась и сравнялась с обыденным эстетическим опытом.
Теперь мы видим, что примерно то же можно сказать об искусстве, которое было всегда. Всегда были дети и старики, душевнобольные и наивы. И всегда наиболее талантливые из них творили.
Но нельзя не видеть и принципиальных различий между маргинальностью и постмодернизмом в искусстве. Шизоидная художественная практика постмодернистов — возьмем ли мы концептуальную поэзию с ее знаками, потерявшими свои значения, симулякры поп-арта или хеппенинг, в отношении которого запрещено ставить вопрос «Как?» (оценочный аспект), довольствуясь лишь назывным «Что?» — везде присутствует тот, кто совершает или подготавливает данный вид духовной практики. Он постоянно соотносит внутри себя норму (академическую или раннеавангардную) и то, что в данном случае резко от нее отклоняется. Даже в тех случаях, когда творчество постмодерниста именуют «контркультурой», а теорию «антиэстетикой», исследователь не должен обольщаться относительно того, что наконец-то он столкнулся с чем-то абсолютно новым. На самом деле расширились культурные рамки, измерение же осталось прежним. Здесь представлен все тот же субъект, предпринимающий разного рода ухищрения, оригинальные приемы, цель которых — максимально снизить порог субъективности, чтобы выйти на нетронутый, неотрефлексированный материал живого опыта, Поэтому постмодернист только играет, пусть и искусно, в шизофрению, в то время как маргинал это, в частности, сам шизофреник.
Наконец, последнее. За тем и другим, за маргинальностью и постмодернизмом просматривается основательная ревизия наиболее тонкого и изысканного инструментария, которым пользовался художник (а вслед за ним и теоретик искусства), начиная, по крайней мере, с искусства Древней Греции. Имеются в виду метафора и катарсис, известные дефиниции которых дал Аристотель в «Поэтике». XX век добавил к ним сублимацию как один из наиболее популярных объяснительных принципов современной культуры.
Разрушив метафизику и обратившись к ровному, поверхностному слою коммуникаций (Ж. Бодрийяр), постмодернизм лишил культуру ее прежней символической глубины. Репрезентации в искусстве были заменены прямыми презентациями объектов, фактов, живого человеческого опыта. Так отпала необходимость в метафоре и катарсисе. Маргинальный художественный опыт отказал в своих правах сублимации. Если XXI век примет столь существенную ревизию оснований западной художественной культуры, он будет вынужден строить здание своего искусства на каких-то новых и пока неизвестных основаниях.
Несколько слов о судьбе настоящего сборника, его структуре и авторах статей.
В его основе лежат тексты выступлений на научных конференциях «Эстетика границ» (17—18 ноября 1997 г.) и «Эстетические приоритеты наивного искусства» (июнь 1998 г.), организованных кафедрой Эстетики Философского факультета МГУ совместно с фирмой «Филантроп», представленной коллекцией живописи, графики, прикладного искусства и галереей наивного искусства «Дар».
Сборник состоит из четырех самостоятельных разделов. В первом разделе («Общие проблемы») рассматривают вопросы эстетических особенностей и специфики маргинального искусства, его отличие от искусства академического, ранне- и позднемодернистского. Здесь же маргинальность рассматривается на уровне отдельных видов и жанров искусства, ставятся вопросы психологии и социологии маргинальной личности в контексте истории искусства.
В остальных разделах сборника («Аутсайдеры», «Наивы», «Дети») представлена попытка на конкретных примерах, с привлечением яркого иллюстративного материала показать ценность и значимость маргинального искусства для современной культуры и культуры будущего.
Авторы сборника — философы, искусствоведы, культурологи ведущих учреждений науки, культуры и искусства России МГУ им. М.В.Ломоносова, Государственного института искусствознания, Государственной Третьяковской галереи. Здесь же представлены практически все действующие галереи современного искусства, специализирующиеся на искусстве аутсайдеров (Музей творчества аутсайдеров, аутсайдерская группа художников «Иные», коллекция изобразительного искусства инвалидов фирмы «Филантроп»), наивном искусстве (галерея наивного искусства «Дар», собрание О.В.Дьяконицыной и государственного российского дома народного творчества), детском художественном творчестве.
Читатель должен быть готов найти на страницах сборника несовпадающие, а порой конфликтующие точки зрения на предмет маргинального искусства. Это связано, во-первых, со сложностью проблемы и, во-вторых, с жанром предлагаемого текста, собранного, как уже было сказано, по горячим следам дискуссий и обсуждений на научной конференции. Думается, что это не повредит, а, напротив, поможет читателю разобраться в одном из наиболее противоречивых явлений культуры уходящего XX века.
3. МАРГИНАЛЫ В ПОЛИТИКЕ
Каждый четвертый сторонник партии «Единая Россия» ненавидит богатых. Будь его воля, он не только экспроприировал бы экспроприаторов, но и расправился бы с ними, как традиционно в нашей стране бедные расправляются с богатыми. Этот вывод можно сделать исходя из результатов социологического опроса ВЦИОМ, поводом для которого послужили опубликованные за рубежом списки самых богатых людей мира, среди которых есть и фамилии российских бизнесменов. На вопрос «Как вы относитесь к появлению сверхбогатых людей в нашей стране?» 25% тех, кто голосует за «Единую Россию», ответили «С возмущением и ненавистью». Аналогичный ответ дали 44% поклонников партии Зюганова. Но на то они и коммунисты, чтобы испытывать классовое чувство к буржуазии. Откровения сторонников партии власти, видимо, не новость для руководства «Единой России». Разумеется, и Александр Беспалов, и Минтимер Шаймиев с Владимиром Пехтиным знают свой электорат не хуже социологов. Иначе они давно бы позаботились о том, чтобы подвести под деятельность своей политической структуры серьезную идеологическую платформу. Но они этого предусмотрительно не делают, заявляя народу только одно «Голосуйте за нас, и вам будет хорошо, потому что мы — партия власти». Такая предусмотрительность объясняется, с одной стороны, тем, что свою политическую игру «Единая Россия» вынуждена вести на электоральном поле, близком к КПРФ. Поэтому и должна выдвигать популистские лозунги. Один из них — борьба с олигархами и региональными баронами, на которую всегда готов подняться так называемый простой российский народ. Но все дело в том, что сама партия как раз и состоит из тех, с кем призывает бороться. И финансируют ее именно российские олигархи и региональные бароны, которым тоже нужна политическая поддержка. С другой стороны, отсутствие четкой партийной идеологии можно объяснить тем, что главный лозунг «единороссов» — «Мы за Путина» — беспроигрышный. Он вполне может заменить многостраничную программу партии. Ведь у президента такой рейтинг, что практически любая политструктура, заявляющая о его поддержке, имеет в своем активе немалую часть электората. Но на данном этапе глава государства заявляет и делает одно, а завтра, возможно, его заявления и дела станут совсем другими. И как тогда будет выглядеть «Единая Россия» со своими четко расписанными заранее идеологическими установками и приоритетами? Ведь когда пропутинское «Единство» отчаянно боролось с «Отечеством — всей Россией», у Шойгу и Грызлова был свой проект партийного документа. Там прописывалась идеология политструктуры, которая опирается на бизнес, борется с нищетой и тесно сотрудничает с западными партиями консервативного толка. У программы же «Отечества», напротив, были закреплены нормы «продвинутого», а точнее, номенклатурного социализма. Партии слились, и идеологии вообще не стало. Появилась только одна цель — набрать в свои ряды как можно больше народу. Расширить свой электорат до границ левого и правого радикализма, а там уж как-нибудь разберемся. В результате в отличие от других партий сегодня никто не может сказать, кого же конкретно представляет «Единая Россия». За кого она выступает кроме, конечно, Владимира Путина. С КПРФ, например, все ясно — она борется за советскую власть и против богатых, находя своих сторонников не только среди маргинальной публики, но и среди сочувствующих бизнесменов. С ЛДПР тоже все понятно — это партия мелких лавочников, которым нужен свой капитализм, эдакий НЭП. Также абсолютно понятна идеология СПС — либералы, представляющие интересы бизнеса, и «ЯБЛОКА» — социал-демократы по западной модели. Что же касается «Единой России», то это партия парадоксов, которые были заложены в ней изначально. Это партия, выполняющая сиюминутные задачи и не решающаяся объявить о том, какие же идеологические сверхзадачи перед ней стоят. Роль политического флюгера кажется «единороссам» сегодня выигрышной, но именно этот порок уничтожил все партии власти, которые существовали в новой России. Поэтому к ней до сих пор довольно скептически относятся политэксперты. Поэтому даже кремлевские кураторы призывают руководство «Единой России» самим придумать что-то масштабное, а не следовать готовым рецептам из администрации президента. Впрочем, одна из таких «сверхзадач» все же, кажется, просматривается. Речь, в частности, идет о выборах, которые всем уже порядком начинают надоедать. Ведь народ выбирает одних, а в руководящие кресла в регионах занимают совсем другие. Изощренные избирательные технологии и законодательные процедуры уже мало помогают власти. После очередного такого голосования к избирательным урнам приходит все меньше потенциального электората, и голосует он все чаще «против всех». Что же делать? Свой (или все же кремлевский?) рецепт на этот счет предлагает глава генсовета «Единой России» Александр Беспалов — повысить планку участия в выборах до 50% от общей численности населения. И руководитель ЦИК Александр Вешняков, еще недавно доказывающий вредность этой идеи, почти готов пойти на компромисс, утвердив порог в 30%. При этом и Беспалов, и Вешняков, конечно же, знают, что для подавляющего числа регионов эта норма просто бессмысленна. А значит, выборов не будет вообще. Губернаторов и мэров будут просто назначать указом президента. При участии, конечно же, партии власти. Получается, что интересы Кремля и «Единой России» сходятся. Ведь власть, таким образом, получит желанный механизм прямого назначения региональных начальников, которых в любой момент можно снять с должности. А в руководящие кресла в субъектах Федерации сядут люди, которые одновременно укрепят и административный ресурс самой партии. И посему ждать, что этот инструмент власти под названием «Единая Россия» в ближайшее время обретет хоть какое-то подобие идеологии, не стоит.
4. ФИЛОСОФЫ И МАРГИНАЛЫ
Среди монахов наиболее заметная группа -это известные, прославленные учителя, основатели и лидеры буддийских школ и философских направлений (Нагарджуна, Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхармакирти и др.). Соответственно об этой группе и сохранилось наибольшее количество сведений. Насколько можно судить, все они происходили из брахманских высококастовых семей, из чего с определённой долей вероятности можно сделать два заключения. Первое — что буддистом в Индии так никогда и нельзя было родиться, каждый индус рождался в лоне традиционной индуистской касты и лишь затем сознательно мог стать сторонником буддийской дхармы; при этом для буддиста-мирянина, видимо, не происходило какого-либо радикального изменения социального статуса. Буддийских каст в Индии, в отличие от, например, джайнских, так и не возникло. Второе — вероятно, что брахманы составляли большую часть буддийской сангхи. По подсчётам, проведённым на материале палийского канона, во времена Будды брахманы составляли около 30% буддийской сангхи, несмотря на определённую антибрахманистскую направленность буддизма .В общем количестве населения брахманов, видимо, было значительно меньше (в конце 19 в. брахманы составляли около 10% населения Северной Индии ). Буддизм в рассматриваемое время (4-7вв.) представлял собой наиболее мощное интеллектуальное движение в Индии и, безусловно, притягивал внимание людей, профессионально занимающихся умственной деятельностью (т. е. брахманов). Те из мыслителей данного периода, которые в той или иной мере сохранили верность брахманской ортодоксии, всё равно находились под сильнейшим буддийским влиянием. К наиболее ярким примерам такого рода можно отнести, например, Вьясу, систематизатора и комментатора философии йоги, и Гаудападу, основателя наиболее ортодоксальной системы индуизма — адвайта-веданты.
Некоторые сведения о социальном происхождении буддийских монахов можно извлечь из китайских источников, хотя этот вопрос, видимо, мало волновал китайских буддистов. Так, в сочинении китайского монаха 6 в. Хуэй-цзяо «Жизнеописания достойных монахов», в разделе «Переводчики», приведены биографии 26 индийских монахов-проповедников, из них лишь у четырёх сообщаются сведения о социальном происхождении. Двое из них были брахманами, двое — кшатриями; причём эти сведения приведены, видимо, лишь ради дополнительных сюжетных подробностей — так, об обоих брахманах сообщается, что их семьи крайне отрицательно относились к буддийскому учению, а оба кшатрия происходили из царских родов .
С другой стороны, буддийская сангха не закрывала двери перед различного рода деклассированными элементами, людьми, сменившими своё традиционное занятие и т. д. Прослойка такого рода людей была характерна прежде всего для городского населения, в то время как в сельской местности человек не мог существовать вне вполне сложившейся к этому времени традиционной кастовой системы. В гуптское время, в связи с расцветом городской цивилизации, число таких людей могло быть достаточно велико. Все они потенциально были прихожанами буддийских храмов (а при случае могли вступить и в сангху), так как в лоне ортодоксального брахманизма им не было места. Интересный пример подобного рода содержится в знаменитой пьесе Шудраки «Глиняная повозка» (видимо, 6 в. н. э.). В ней есть эпизод, в котором рассказывается о неудачливом игроке в кости, сыне добропорядочного горожанина, но ставшего массажистом. После того, как он убеждается в пагубности своего пристрастия к игре, он принимает решение стать буддийским монахом. В конце пьесы бывший массажист предстаёт странствующим буддийским монахом , и даже, после развязки всех событий, наказания злых героев и награждения добродетельных он назначается главой всех буддийских монастырей в стране — должность, ни из каких других источников не известную, возможно, это поэтическое преувеличение. Интересно, что и главную героиню, богатую гетеру (ганика), он в конце пьесы называет последовательницей Будды . Поскольку сама она в сангху не вступила, видимо, она стала буддисткой-мирянкой. Вообще отношение буддизма к женщинам свободного поведения — это тема отдельного исследования, приведём здесь лишь некоторые факты.
Особое отношение буддизма к проституткам началось ещё со времён самого Будды. Одной из первых мирских последовательниц Будды была знаменитая куртизанка (ганика) Амбапали из города Вайшали. Она прославилась тем, что брала за ночь пятьдесят монет (каршапан). Сам Будда не гнушался жить в её доме, и со временем она стала героиней многочисленных буддийских историй .
Иногда гетера парадоксальным образом может выступать чуть ли не примером воплощения буддийских добродетелей. В известном буддийском сочинении «Вопросы Милинды» (кн.3, гл. 1) некая блудница по имени Бандуматия утверждает, что она достигла полной свободы от каких-либо пристрастий и антипатий. Бандуматия произносит следующее заклятие правдой (древний индийский обычай) «Кто бы мне не платил — кшатрий ли, брахман ли, вайшья ли, шудра ли, иной ли кто, всем я равно угождаю, ни кшатрия не отличаю, ни шудрой не гнушаюсь. Я от пристрастия и неприязни свободна, кто мне платит, того и ублажаю» . Сила её заклятия оказывается столь велика, что оно способно повернуть вспять течение Ганги. Парадоксы подобного рода позднее обыгрывались в чань (дзэн) -буддизме; интересно, что по-японски слово Дарума — имя первого патриарха школы чань (санскр. Бодхидхарма) — обозначает одновременно и проститутку .
С упадком городской гуптской цивилизации и наступлением периода раннего средневековья число различного рода маргиналов неизбежно должно было сократиться. Часть этих слоёв, а также низших каст, со временем нашла себе место в лоне индуизма, с помощью различного рода тантрийских сект, расцвет которых начинается примерно с 6 в .
5. МАРГИНАЛЬНОСТЬ И ПРАВО.
Во взаимодействии права с феноменом маргинальности есть нечто общее для всех стран. Э. Дюркгейм увидел корень проблемы в утрате связей части общества с социальным целым, что было зафиксировано им в категории «аномия» (безнормность). Аномия давала многим исследователям ключевую характеристику асоциальной части маргинальных групп, которые иногда считались неспособными переступить высокий порог нормального социума. Затем стали говорить о заколдованности самого порога. Асоциальных маргиналов пытались представить как неких первобытных субъектов.
Исследователь Черной Африки В. Тэриер описал обряды так называемых пороговых людей — ламиналов. Ламиналы и маргиналы, имея кое-что общее, принципиально расходятся. Ламинал временно утрачивает одни нормы, однако завершение обряда делает его частью нормального коллектива. Маргинал же, выйдя из одного состояния, не может отождествиться с другим. Отход от базовых норм становится бессрочным. Нарушение трансляции социального опыта между социальным целым и его частями, социальными группами и индивидами, структурами управления и управляемыми охватывает область права и правосознания. Само право становится маргинальным, а общество — анемичным.
Носитель аномии оказывается не в состоянии подчиняться ценностно-нормативной системе общества. Потеря нормы — часто условие ее нарушения, которое может закрепить маргинализующие факторы. Совершенно закономерно, что преступники вытесняются в маргинальные слои на периферию общества. Но при тех ножницах в праве, которые образуются между провозглашением равенства возможностей и отсутствием механизмов его осуществления, возникает интерференция норм и их взаимное угасание.
Может ли право носить маргинальный характер? Не является ли маргянализация права простым возвращением в ненравовое, а по сути в бесправное состояние?
Оказывается, нет. Так, а нашей стране в условиях нарушения трансляции правового опыта через правовые механизмы после распада социального целого советских структур происходит интерференция старых и новых правовых отношений, при которой старые структуры могут выполнять функции новых, а новые служить для реализации прежнего правового потенциала. На поверхности общественной жизни такие явления воспринимаются как «суверенизация», «война законов»,«правовой нигилизм», «попрание нрав» и т. д. На самом же деле происходит марги-нализация права, что означает ущербный тип правосознания и правового поведения, воплощающий переходную форму общественного сознания, а равно и некое «серединное бытие», сочетающее элементы традиции и инновации. Причем традиция зачастую ведет себя как инновация, а ин-новация пытается утвердиться как традиция.
Маргинализация правовых норм не всегда означает распад социальности. Это могут быть нормы ложной социальности нормы апартеида, оседлости, пространственной сегрегации, оккупационного режима и т.д. Об этом же свидетельствует стандарт маргинального сознания преступника «они достигают всего через связи, а я через отвагу», т. е. маргинал и преступник сами творцы своего статуса. Но при такой трактовке права любые асоциальные стандарты, касающиеся части обществ, могут быть объявлены тсждественными стандартам социальным. Например, если для закона не существует различия между террористом-уголовником и террористом-революционером, то для маргиналыюсти или нормальности в смысле наличия базовых норм такого целого, в смысле связи с более высокой реальностью как источником норм, такие различия принципиальны.
Маргинал не обязательно преступник и не люмпен. Статус люмпена законен. Статус преступника нет, а статус маргинала может быть и тем и другим. «Быть вне норм» может означать разное. Более высокий статус для люмпена недостижим, пока он люмпен. Статус маргинала не конечное звено его переходности.
Таким образом, если обратиться к шкале нарушения кодексов культур, предложенной Т. Селином», то мы увидим, что первая позиция, когда кодексы сталкиваются на границах, присуща и люмпену, и маргиналу, и преступнику; вторая в потенциале интерференции юридических норм может трактоваться как исключающая преступника; третья, когда члены одной культурной группы переходят в другую, может быть названа как маргинальность на излете.
Структурно-функциональный анализ, типичный для западиой социологии, не решает проблемы корней маргинальности и не объясняет маргинализации самого права.
Линия, восходящая к Р. Парку, дала ряд догадок, которые позволили раскрыть сущность маргинальности как распада социальных связей с базово-нормативным целым. Для социально-экологического направления феномен маргинальности не исчезал как самостоятельный объект.
Применяя выделение самостоятельности объекта для маргинального права, мы тем самым ставим вопрос о соотношении «нормального» и «маргинального» права, о специфике маргинальности, ибо простое отклонение от нормы ничего не объясняет. Если дело в нарушении социального наследования трансляции, размещения и приращения социокультурного и правового опыта, то дисфункции также присущи всем группам и индивидам. Маргинальность не передается генетическим образом, ибо наличие социального контроля при относительно здоровых социальных условиях способно нейтрализовать специфически маргинальные характеристики индивидов и общностей.
При обосновании существования маргинального права могут быть выдвинуты три взаимосвязанных тезиса. Во-первых, маргинализация советского права является неизбежным следствием изменения контекста функционирования правовых отношений в направлении правового государства. Именно это и вызывает нарушение трансляции правового опыта и интерференцию правовых норм. Во-вторых, при переходе к новой правовой культуре неизбежно рождаются смешанные переходные формы юридических отношений, действующие как реальная практика и как фактор правосознания, превращая функционирующее право в маргинальное. В-третьих, восстановление нормальной трансляции правового опыта оказывается невозможным из-за аналогичного процесса в социальной структуре. Выделение маргинальных групп и их изоляция на разных уровнях социальной лестницы обостряет вопрос о социальных функциях правового государства.
ЛИТЕРАТУРА
1. «Нет ничего опаснее пассивности масс», 1998, Х. Раковский.
2. «Маргинальное искусство», Издательствово московского университета, 1999, А.С. Мигунов.
3. «Маргинальность. Социологический анализ Учебное пособие. М., «Союз», 1996, И.П. Попова.
«