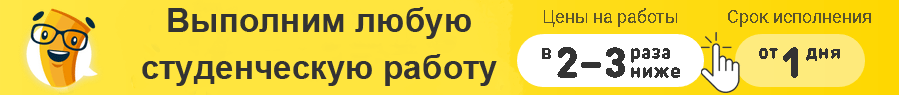Краткий курс истории одного мифа
Марина Раку
Вопрос об общественном статусе музыки, точнее — о ее возможности быть идеологией или выражать идеологию, не имеет однозначного и легко формулируемого ответа. Вопрос этот поднят не вчера и отнюдь не публицистичен. Его природа, скорее, философская и, в не меньшей степени, историческая. Постановка его подразумевает наличие в музыкальном языке некой составляющей, которая то всплывает на поверхность музыкального текста, то погружается в него, становясь незаметной, то примысливается в виде комментирования, своего рода экзегетики…
Теперь о том, как же все это происходило у нас. О том, как однажды мы поняли, что это произошло. О том, какие пути истории привели нас к тому незабываемому моменту, когда по всем программам телевидения одновременно шел показ Лебединого озера» и сладостные рапиды па-де-де, своей истомой напоминавшие об умирании фокинского Лебедя, неоспоримо символизировали гибель империи, оформленную абсурдной помпезностью «большого стиля». И как могло случиться, что репрезентантом этого всеохватного ампира стал наш бедный Петр Ильич. Его пример нам кажется особенно назидательным, ибо истории довелось поставить точку балетным пуантом, озвученным именно его музыкой под аккомпанемент выстрелов.
История эта, как и вся наша современная история, началась задолго до 17-го года. Уже Серебряный век наделил музыку Чайковского своеобразной идеологической аттестацией. Споры вокруг этого имени были тогда особенно ожесточенны и побеждала в целом пренебрежительная оценка его творчества. Многое в этих характеристиках предвосхищало более чеканные формулировки революционных лет. В критическом наследии той эпохи он упоминается в неизменном соседстве с Чеховым и Левитаном, и уже тогда рождается характеристика его как выразителя «хмурой, слабовольной души» русской интеллигенции. В продолжение этой традиции в 1918 году поэт и композитор Михаил Кузмин характеризует облик Чайковского как «конечно, пассивно-интеллигентский, элегически-чиновничий, очень петербургский 80-х годов, немного кислый» . «Певец житейских будней», Чайковский был, как писал В. Каратыгин, «человечен, слишком человечен». Бетховенский возглас «Нет, не эти звуки!» сопровождал путь музыки Чайковского в эпоху ницшеанского взывания к героическому. И действительно, 9-я Бетховена противостоит образу музыки Чайковского в сознании поколения, отчего желающий вступить в неравный спор с эпохой Мясковский и назовет свою статью 1912 года «Чайковский и Бетховен», в полемическом запале, ставя знак равенства между двумя этими явлениями.
Между тем уже тогда становилось отчасти ясно, что музыка Чайковского имеет некоторый специфический общественный статус, от которого даже ярым ее противникам отмахнуться будет нелегко. Вошедшее тогда в моду на Западе пренебрежительное отношение к Чайковскому в России неизбежно корректировалось той колоссальной ролью, которую он сыграл и продолжал играть после смерти в сознании громадной слушательской массы. Даже наиболее последовательный критик наследия композитора, уже упомянутый выше В. Каратыгин, вспоминал через 20 лет после смерти Чайковского о потрясении, вызванном ею, о «всероссийском горе» «Впервые ощутилась мною на этой почве связь моя с обществом вообще. И оттого, что тогда это случилось впервые, что Чайковскому я обязан первым пробуждением в себе чувства гражданина, члена русского общества, — дата его смерти и поныне имеет для меня какое-то особенное значение» .
20-е годы вплотную столкнулись с проблемой ценностного и иерархического определения статуса музыки Чайковского. «Экзамен на революционность», придирчиво проведенный деятелями РАПМа, выдержали два композитора — Бетховен как диалектик и Мусоргский как реалист. Диалектика Бетховена и реализм Мусоргского образовывали искомый идеологами от искусства синтез «диалектического материализма». Отсюда и рекомендованный «для концертной работы в рабочей аудитории» список сочинений и авторов, который почти целиком ограничен творчеством двух этих композиторов. Чайковский же («некоторые оперы и симфонии») рекомендуется «в плане показа» . Но и оппозиция РАПМу не вполне определяется в своем отношении к этому автору «До последнего времени вокруг имени Чайковского идут горячие споры. Чернильные приговоры резко расходятся с концертной практикой. И руководители массовой музыкально-просветительской работы, колеблясь между первыми и второй, совсем теряют голову что же, наконец, полезен или вреден для нашей новой аудитории Чайковский?» . Попытки определить место Чайковского в формирующейся «табели о рангах», выдать ему некую «охранную грамоту» от посягательств леваков заставляли искать идеологов из другого лагеря новый образ композитора. Задача «воссоздания образа» Чайковского и его «оценки», как формулировал эту задачу Б. Асафьев (еще писавший в тот период под именем И. Глебова, а следовательно и от имени несколько иного «лирического героя») и будет рассматриваться с прагматических позиций — «вреда или пользы» для новой аудитории. Для ее решения потребовалось некоторое «жанровое цензурирование» творчества Чайковского «Каков же этот род произведений Чайковского, к которому растет интерес у нашего слушателя? <…> Центр тяжести перемещается с вокальных, оперных <…> композиций на оркестровые, симфонические<…>» . На деле же это не признание наличного состояния дел, а настойчивая рекомендация к действию, поскольку демонстрирует тактику избегания музыкальных текстов, «означенных» словом — стихами, оперными либретто или балетными сценариями. Сходная тенденция проявляется и у рапмовцев. Определяющей для них стала борьба против «мелкобуржуазных тенденций в искусстве», а излюбленной мишенью был выбран городской романс, снабженный ярлыком «цыганщины» — вокальная лирика Чайковского с легкостью подпадала под это определение. Но именно она-то и была чрезвычайно популярна у слушателя 20-х годов. Таким образом, Чайковский вполне подходил по свойствам своего художнического облика к тем, кто должен быть «сброшен с корабля современности». Однако отказ от него новой пролетарской культуры означал бы конфронтацию с реально существующими вкусами публики. Вкусы «новой аудитории» оставались «старыми». Недальновидность максималистского их отрицания рапмовской молодежью стала очевидна довольно скоро. Стремление удалить словесный ряд от контакта со слушателем естественно диктовалось желанием подменить «слово Чайковского», словом, созвучным новым чаяниям времени. Комментирование музыки, толкование ее смысла должно было переинтонировать ее звучание, найти для ее семантики новую референциальную направленность. Таков был социальный заказ, и в скором времени он обрел своих талантливых исполнителей, первым среди которых по праву должен быть назван Борис Асафьев.
Асафьев в его «работе над Чайковским» представляет собой интереснейший образец того, как переделка общественной репутации композитора, пигмалионова работа по созданию его нового образа становится одновременно процессом психологической перековки самого автора новой концепции, того, как старая риторика (филиппики против интеллигенции — «чеховщины и левитанщины») вступает в контакт с новыми идеологическими моделями. Вначале этого пути творческая эволюция Чайковского рассматривается под углом зрения теории изживания творцом витальных сил в творчестве и мистического фатального тяготения к смерти, что отражает страстное увлечение молодого ученого книгой М. Гершензона «Мудрость Пушкина» (М., 1919). В 30-х годах Борис Асафьев начинает скрытую полемику с Игорем Глебовым 20-х. По трансформации его взглядов можно отслеживать изменения в официальной культурной политике и научные работы будущего академика становятся настоящей лабораторией по выработке социалистического мифа о Чайковском. Именно в асафьевских статьях этого времени всесторонне обосновывается аттестация Чайковского как «мастера художественного реализма». Не будучи в состоянии отрицать без обиняков все, что говорилось им в статьях предыдущего десятилетия, Асафьев прибегает в своих новых работах к различного рода казуистике «Страх смерти у ранних романтиков…и у Чайковского — это не мистический страх перед загробным миром и судом, а ужас реалистически мыслящего художника перед неизбежностью прекращения творчества и расставания с действительностью, в которой хорошо даже страдать, создавая. Весь лиризм Чайковского в этой психологической завязке, конечно, не имманентно-психологической, но имеющей причину во всем известных классовых конфликтах» . Итак, трагизму музыки Чайковского приписываются социальные основания вплоть до утверждения, что Чайковский был «не в силах преодолеть надрыв, наследие ряда трагических опустошенных десятилетий в жизни передовой европейской демократии. Эта интеллигенция, наивно уверовав в правду «прав человека и гражданина» и в спасительный демократизм, близоруко не замечала роста рабочего класса, которому принадлежало будущее и вся правота человеческой правды» . Требование «поверить в рост рабочего класса» в 20-е годы еще не выдвигалось. 30-е предъявили его Чайковскому. Условия этого запоздалого ультиматума взялись выполнять интерпретаторы наследия композитора — каждый в соответствии с размерами своего дарования. Композитору не отказывается в пессимизме, однако пессимизм возникает вследствие реализма, а значит «можно сказать, что тоска Чайковского — есть результат его жизнерадостности» .
Все же цитированные нами до сих пор авторы составляют как бы вершину этой профессиональной пирамиды, а вот у подножия ее, да, впрочем, и немного выше, не так часто встретишь эту одаренность к виртуознейшей казуистичности, там действуют спрямленные приговоры, четкие и недвусмысленные формулировки, а иезуитская идеологическая тактика эпохи выступает на поверхность в неприлично «голом» виде. Приведем только один курьез этого типа «Предпринятое несколько лет назад одним из ленинградских музыковедов обследование воздействия на аудиторию творчества различных композиторов показало, что музыка П.И. Чайковского одинаково любима самыми различными категориями слушателей юными и взрослыми, музыкально неразвитыми и, наоборот, вполне культурными, мужчинами и женщинами, работниками физического труда и интеллигентных профессий и т.д… Гениального русского композитора уважали и любили и в старое время… Но тогда Чайковского знали и воспринимали слишком односторонне, главным образом под углом зрения «любительских вкусов». В его музыке ценили преимущественно меланхолическую мечтательность, с одной стороны, и безысходно-мрачное настроение — с другой, на них в большинстве и откликались эти слои слушателей Чайковского дореволюционной эпохи. Кстати сказать, отсюда недалеко до крайне одностороннего взгляда на Чайковского как на певца упадочных настроений, безудержного нытика и потому идеологически чуждого нам композитора, — взгляда, бытовавшего у нас во времена расцвета деятельности рапмовской музыкальной организации, ликвидированной историческим постановлением Центрального комитета партии 23 апреля 1932 года» . Этот текст, кажется, мог бы служить предметом психоаналитического анализа в духе Адлера, настолько точно здесь выражена подспудная логика новой идеологии. Именно придание музыке Чайковского «оптимистического статуса» и стало насущной задачей 30-х годов. Весьма убедительно эта коллизия проступает в работе Михаила Зощенко с моделью «Пиковой дамы» Пушкина-Чайковского в его «Веселом приключении» из «Сентиментальных повестей». В юмористически-сатирический колорит окрашено появление этого оперного интертекста тогда же, в конце 20-х годов и в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова .
Полемика об идеологическом значении музыки Чайковского не затихала до середины 30-х годов. Выступления Луначарского, говорившего на своих публичных лекциях о «мучительной жажде счастья», которая звучит в музыке Чайковского, и тем самым актуализировавшего для своей аудитории содержание его творчества, выдавая ему своеобразную политическую индульгенцию, не останавливала ярых хулителей из среды рапмовцев. Более того, даже личное пристрастие Сталина к музыке Чайковского не меняло ситуации, хотя была известна любовь диктатора к «Пиковой даме», а еще в 1926 году в беседе с композитором Мелитоном Баланчивадзе он говорил даже о влиянии Чайковского на творчество грузинских композиторов. Как мы уже показали, невзирая на все эти факты, официальное положение Чайковского в культуре страны Советов оставалось двусмысленным. Между тем РАПМ все активнее вмешивался в репертуар концертных залов и радио и именно отношение левацких кругов оказывало в этот период реальное влияние на судьбу наследия того или иного композитора.
Так, с двух сторон — левацки-агрессивного РАПМа и научно-академических кругов — формировался тот идеологический подход к наследию Чайковского, который определит художественную стратегию и тактику следующего десятилетия. Их метод можно обозначить как присвоение дискурса, чей наличествующий идеологический модус изменяется в интересах власти.
Именно такая борьба за присвоение дискурса Чайковского развернулась в 30-е годы в советской культуре, когда выработка канона «социалистического искусства» потребовала и обнаружения его «генеалогического древа». Легитимность новой власти должна была удостоверяться «хорошей родословной» — так берется на вооружение классическая формула о «трех источниках, трех составных частях марксизма». Начался отбор претендентов и для родословной народившегося социалистического искусства. С литературными приоритетами разобрались довольно быстро Пушкин и Горький возглавили список. Что касается композиторов, то выбор пал в первую очередь на Глинку и Чайковского (впоследствии в одной из речей Сталина военного времени прозвучало «Мои любимые композиторы — Глинка и Чайковский»). Все же в этом неожиданном тандеме роль Чайковского оказалась своеобразной. К середине 30-х годов с него еще не были сняты обвинения в «упадничестве», «интеллигентской чувствительности», «мистицизме» наконец. Отчего же в таком случае именно ему была оказана подобная честь? Причин может быть названо несколько. Не последнюю роль сыграло то, что другие претенденты на это место тоже были «с изъянами», но Чайковского выделяло среди них жанровое разнообразие творчества и наличие крупных симфонических концепций. Решающее же слово осталось за особой любовью самого широкого слушателя, продолжавшего в самые разные исторические периоды отождествлять себя с лирическим героем Чайковского.
Власти было настоятельно необходимо «сменить анкету» полуопальному композитору для «определения классового лица» композитора изобретается тезис о его сближении с разночинцами. И тогда уже выводится следующая формула творчества «доступность, массовость, искренность». Не менее важным ее элементом является реализм. Весьма показательна с этой точки зрения история постановки в 20-х годах в Оперной студии Станиславского «Евгения Онегина» постановочные материалы изобличают ностальгическое стремление режиссера запечатлеть «уходящую натуру» дворянского века, а современная критика пишет о приходе на музыкальную сцену реалистической эстетики, дающей начало советскому оперному театру. Спектакль, завершающий реалистическую эпоху русской оперы, обобщающий ее достижения, к началу 30-х годов осмысляется как новаторский прорыв в будущее и назначается «альфой и омегой» советской музыкальной режиссуры, а его эстетические каноны остаются руководящими для отечественной оперной критики до самого последнего времени.
Для 30-х годов в целом чрезвычайно важно утверждение о том, что «…реалистичен не только романтический «Онегин», но даже и «Пиковая дама», несмотря на введенный в нее элемент сверхъестественной силы» . Тактика изживания мистицизма из сочинений Чайковского под лозунгом реализма (для характеристики самого композитора Асафьевым был к тому времени изобретен уклончивый термин «психореалист») последовательно осуществлялась в знаменитой постановке Мейерхольдом «Пиковой дамы» в середине 30-х. Сверхзадачей спектакля Мейерхольда была «реабилитация Чайковского» (эта мысль постоянно витает в ходе обсуждения спектакля) и постановка замышлялась режиссером как акция серьезного политического звучания. «Патент на классику» еще не был выдан музыке Чайковского в 30-е годы, но власть нуждалась в идеологически проверенной классике. Вот почему основным девизом постановки Мейерхольда становится «пушкинизация». «Приблизить оперу Чайковского к повести Пушкина» означает, другими словами, приблизить Чайковского к Пушкину на новой шкале ценностей придать ему статус классика, которым уже наделили Пушкина — друга декабристов и жертву николаевской эпохи. (Хотя «пушкинизация» «Пиковой дамы» Чайковского осуществлялась многократно — и до революции, и после нее, как и «пушкинизация» «Онегина».) Интересно то, как спектакль Мейерхольда, предназначенный открыть «новую эру революционного театра», приобрел через несколько лет одиозную репутацию, ибо своим авангардным бунтарством не вписывался в новое направление культурной политики, нацеленной на кодификацию пригодного новому обществу культурного наследия прошлого. А 60-е годы отведут ему роль диссидентского выступления, которое совсем не входило в планы его авторов.
Поиски нового «классового портрета» Чайковского вели к почти агрессивному посягательству на всю сюжетную область его творчества, а следовательно, были связаны в первую очередь со сценическими жанрами. Конечно, такие попытки делались уже в 20-е годы, поскольку традиция переделок либретто в революционном духе началась уже тогда. Но гораздо удобнее, чем Чайковского, можно было в этих целях использовать, например, сюжет «Тоски». Однако в начале 20-х годов и Чайковский иногда подвергался такой «классовой перековке». Так, в Одесском театре оперы и балета «Лебединое озеро» ставилось тогда в новой редакции с радикально переделанным либретто. В основе его лежали преображенные мотивы шекспировского «Гамлета», а действие происходило в некоем современном капиталистическом государстве. В 30-е годы сюжетные переделки становятся нормой и в драме, и в опере, и в балете В музыкальном театре они проходят под знаком приближения к литературному первоисточнику. Свое начало это модное поветрие берет в дореволюционном музыкальном театре — на оперной сцене. Но в 30-е годы и эта тенденция обрастает идеологическими подтекстами. «Щелкунчик» Ф. Лопухова и «Лебединое озеро» А. Вагановой — оба — были попыткой выявления «гофманианства» Чайковского. Сюжету и музыкальному действию, помещенным в контекст прошлого века, придавался актуальный идейный смысл, который раскрывался в историко-критических комментариях, сопровождавших появление спектаклей. Социологизирование теоретиков театра становилось программой для практиков. Рука об руку с «актуализацией» шел процесс упрочения реалистических позиций. Исполнительский стиль балетов Чайковского трансформировался в сторону героизации, снятия «пассивно-меланхолического налета», пресловутой «мистики». Так определялась эстетика нового — «советского» — образа классического балета. Отголосок этого героического образа хореографической лексики обнаруживается в одном из важнейших пластических символов времени — мухинской скульптуре «Рабочего и колхозницы», застывших в условном, устремленном ввысь и вдаль арабеске.
Присвоение дискурса Чайковского в 30-е годы происходило стремительно. Этот процесс подстегивало и приближение столетнего юбилея композитора, которое воспринималось властями pendant только что прошедшей столетней годовщине гибели Пушкина. К 40-му году облик Чайковского и его музыки был ударными темпами скорректирован. Приведем курьезный, но чрезвычайно показательный документ.
К 100-летию со дня рождения Чайковского издательство КОИЗ выпустило книгу для детей — юбилейную поэму некоего автора по фамилии Фри-Дик (свои экзотизмом наводящую на мысль о псевдониме). Книжка с перекидными картинками была иллюстрирована, а обложку украшал один из известных портретов Чайковского последних лет жизни, подписанный датами «1840-1940». В ней содержались следующие стихи
На обложке книжки дядя —
Аккуратненький, седой
На него, ребятки, глядя,
Каждый спросит кто такой?
Что он сделал, чем прославлен,
Чей он старенький отец,
Может, к ордену представлен
Неизвестный нам боец?
Может, дяденька в колхозе
Отличился как герой,
За езду на паровозе
Был прославлен всей страной?
Может, он на парашюте
Прыгнул с страшной высоты,
В героической минуте
Занял важные форты?
Вовсе не был он героем,
И фортов не занимал,
Но науку брал он с боем —
Все уроки посещал
Ну, теперь узнайте, дети,
Кем он был, и кем он стал
В детстве был отличник Петя —
На рояле он играл.
Каждый день наш Петя гаммы
Стал старательно учить
Ну теперь решите сами
Кем же Петя должен быть?
Вы задумались немножко,
Ну, так я вам подскажу
Написал он песню «Крошка»
Для собачки, для Пежу,
Сочинил он плясовую
Для танцующих котят,
Также песенку живую
Для прилежных всех ребят
Написал балет «Щелкунчик»,
«Спящая красавица» …
Посмотрите и скажите —
Как вам это нравится.
Сочинил он представленья,
Песни, оперы, балет,
И ему со дня рожденья
Уж исполнилось сто лет!
Он профессор был московский,
Вечно в музыке живой,
Чудный Петр Ильич Чайковский,
Композитор наш родной!
«Петя Чайковский» включен в этом маргинальном, а оттого еще более показательном тексте, в житийный свод социалистической культуры. К этому времени подретушированную фигуру бывшего «изгоя на корабле современности» (а теперь «вечно живого»!) уже можно разглядеть на недавно созданном иконостасе эпохи и в совершенно неожиданном окружении.
В том же 1940 году знаменитый чтец В.Н. Яхонтов показал новую работу своего «ленинского цикла» по книге «Что делать?» под названием «Надо мечтать» (содержащим ответ на ленинский вопрос) «Эпизоды юности Ленина, прошедшей на волжских просторах, сопровождались протяжными мелодиями Мусоргского… Речь Энгельса над могилой Маркса — мощными аккордами бетховенской «Апассионаты». Настроения Ленина, тоскующего вдали от родины, в эмиграции, передавали музыка Чайковского и русские народные мелодии. Песни революционного подполья вырастали в поэтические символы борьбы» . Поистине впечатляющее торжество диалектической триады, когда вслед за идеологическими «тезисом и антитезисом» начала 20-х — 30-х годов последовал синтез 40-х, совершенно невообразимый еще несколько лет назад (и Мусоргский, и Бетховен, и революционная песня, и Чайковский!). Музыка Чайковского совсем не случайно выступила здесь в контексте патриотической темы. Именно эта семантика закрепляется за ней к столетнему юбилею и начинает формировать идеологический «миф Чайковского» в 40-е годы. Известнейший эстрадный сатирик Н.П. Смирнов-Сокольский в 1942 году выступает в саду «Эрмитаж» с лирическим фельетоном «Во поле березонька стояла», «в котором лирическая тема русской березы сочеталась с образом Родины, с образом В.И. Ленина…» Чтение фельетона сопровождалось отрывками из Четвертой симфонии П. Чайковского… Артист спокойно произносил «…На II съезде РСДРП, когда рождалась большевистская партия, Ленин, слушая очередного оратора, торопливо делал пометки. Небрежно и кратко записанные большие ленинские мысли… И вдруг — сбоку на блокноте слово «березка». И снова «березка». Еще и еще… Ленин любил все русское — русский народ, русскую природу и русскую песню. Приехали из России товарищи, на чужбине пахнуло родиной…» .
В 40-е годы возникает своеобразная «химическая реакция» от слияния «кодификации» творчества Чайковского, приуроченной к его юбилею, с новой идеологической политикой, связанной с наступлением войны и усилением национально-патриотической пропаганды. Тезис о национальной природе музыки Чайковского, на протяжении длительного времени воспринимавшийся как проблематичный, выступает теперь неким барометром «политической погоды». Так, Асафьев в «клинской новелле» 1948 года — «Спящая красавица» или «Спящая царевна» формулирует проблему весьма определенно «русский ли балет «Спящая красавица»?..». Вопрос, впрочем, теперь звучит уже риторически.
Именно в это время возникает более отчетливый контакт с традицией Чайковского в композиторском творчестве. Музыка Чайковского для одних композиторов — ранга Шостаковича и Мясковского — продолжает связываться с трагическим портретом личности в ее схватке с судьбой, что актуализируется новыми историческими условиями, для других же — наделенная новой семантикой, начинает использоваться как символ «национального героизма», причем окрашенного не в пассивно-интеллигентские тона, а оптимистически. Устойчивость подобной трактовки можно признать несомненной «победой советской власти на культурном фронте».
В целом же эпоха присвоения дискурса Чайковского советской властью триумфально завершалась. И в высшей степени символичным стало то, что прощание с «отцом народов», под недреманым оком которого совершалась жизнь России на протяжении нескольких десятилетий, происходило под звуки 1-й части «Патетической симфонии». «Миф Чайковского» был поставлен на службу идеологии «После периода энергичного «сбрасывания с корабля современности» он занял место «великого классика» и это стало новым испытанием для его музыки. <…> Музыка Чайковского оказалась «законсервирована» и не росла, не менялась одновременно с жизнью нескольких поколений, для которых имя композитора оказалось синонимом неколебимой репутации, окруженной ореолом навсегда устоявшейся государственной оценки — в одном ряду, например, с Чеховым, «старым МХАТом» или «системой Станиславского»» .
Наступление 60-х годов должно было, по всей видимости принести обновление и в сфере идеологической интерпретации творчества Чайковского. Естественно было бы ожидать от периода «оттепели» отказа от основных позиций мифа об этом художнике. Действительно, утвердив композитора в статусе общепризнанного национального и мирового классика, власть, кажется, оставила его своими «заботами». Новые штрихи на его «идеологическом портрете» в 60-е и последующие за ними годы уже не возникали, и попытки демифологизации, очищения его образа от многолетних идеологических наслоений. В 1962 году в свет выходит первый том монографии Н. Туманиной «Чайковский. Путь к мастерству», второй том «Великий мастер» появился через шесть лет. Далеко не первая в этом жанре, монография Туманиной и до сих пор остается наиболее полным исследованием творчества Чайковского на русском языке. В предпосланном ей Введении формулируются основные эстетические позиции автора, который со всей очевидностью суммирует некие общие выводы отечественного музыкознания, достигнутые к тому времени. «Художник-гражданин» и «композитор-реалист» в этом описании незаметно модулирует к портрету Мусоргского, как впрочем, за вычетом музыки, может быть отождествлен и с Некрасовым, а в некоторых трактовках того же времени и с Пушкиным. На самом деле, Чайковский поверяется неким художественно-идеологическим каноном, выковавшимся в горниле эпохи, отчеканенным ею для «профиля классика», и не только не скорректированным духом «оттепели», но напротив, обретшим завершенность и вид научной обоснованности. Труд Туманиной обозначает высокую профессиональную норму, а вовсе не исключение. Работы 30-х годов зачастую аттестуются здесь, в соответствии с оценкой нового времени, как отмеченные «вульгарным социологизмом», но сами 60-е годы продолжают давать все новые и новые подобные образцы. Итак, наука о музыке, посвященная творчеству Чайковского, демонстрирует в 60-е годы не отказ от прежних идейных установок, а, как это ни странно, упрочение их. Однако, если вдуматься, это наблюдение довольно точно отражает специфику «оттепели» с ее стремлением обновить звучание старых лозунгов, а вовсе не сменить их. Еще более парадоксально этот процесс проявляет себя в сфере бытования музыки Чайковского в послевоенные десятилетия.
Обратимся вновь к судьбе «Пиковой дамы» — одного из центральных сочинений Чайковского с точки зрения присвоения дискурса. Начало 60-х ознаменовано появлением экранизации Романа Тихомирова с Олегом Стриженовым в главной роли; в конце 1976 года выходит спектакль Льва Михайлова в театре Станиславского — в обоих обращениях ощутима память о «мейерхольдовской легенде». Еще более явно связь с мейерхольдовским экспериментом обнаружила себя в любимовском спектакле, прокламированном в конце 70-х, увидевшем свет рампы в середине 80-х, а московскому зрителю предъявленном лишь в конце 90-х. Пример этих постановок показателен тем, как неестественно прерванный ход событий начинает «пробуксовывать», повторяя эксперименты, уже осуществленные, но «вычеркнутые из памяти», «запрещенные», надолго исключенные из списка «учебников», коим должно служить любое прошлое. Опыт спектакля Мейерхольда, чей триумф в скором времени был переоценен как провал формалистического направления, требовал освоения отечественной культурой. Оно произошло, но с опозданием даже не на 40, как предполагалось Любимовым, Рождественским и Шнитке, а на 60 лет, и это привело к тому, что спектакль, показанный в Москве к 80-летнему юбилею Любимова, потерял уже и свою идеологическую актуальность отрицания единомыслия, и свою историческую значимость попытки «рецепции» спектакля Мейерхольда, и, наконец, столь важный для театра энергетический запал доказательства неких новых идей, набора новой высоты, еретичества. В сущности, этот спектакль, запрещенный в конце 70-х, осуществился именно тогда — в словесном поединке газетного доноса и попытки прилюдно же полемизировать с ним, взывая в сущности к здравому смыслу демократических свобод, права на которые в тот момент еще не существовало. С их появлением сверхзадача спектакля Любимова отпала и осталась эпигонская работа «по следам» Мейерхольда, слишком явно воссоздающая его идеи 30-х годов в атмосфере 90-х, и столь же очевидно наследующая те проблемы общей концепции, которые преодолевались только гением великого режиссера. Но, повторяю, это уже не было неудачей постановки, а лишь еще одним подтверждением тривиальной истины о том, что театр существует «сегодня и здесь». Любимовский римейк легендарного спектакля 30-х должен был быть показан, дабы восстановить утраченную связь времен. Но его внутренняя немощь отразила в зеркалах, обращенных в зал, самую суть новой эпохи — эпохи 90-х, в которую так запоздало попала эта опальная «Пиковая».
«Лебединое озеро», ставшее на некое время эмблемой политической реставрации, и московский показ «Пиковой дамы» Любимова — прозвучали начальным и завершающим аккордами коды истории мифа о Чайковском в советскую эпоху. Официоз и андерграунд сошлись здесь в одном — они подтвердили печальное наблюдение современников о холостом ходе времени.
Эпоха завершилась, но может ли завершиться миф? В начале 90-х годов Шнитке заканчивает оперу «Жизнь с идиотом» «…Как и раньше в его сочинениях, много столкновений разного материала — намеренно равнодушных, казенных слов главного героя,<…> бурных, ухарских «токкат» разудалых сексуальных сцен, цитат-намеков, построенных на интонациях революционных песен Вихри враждебные, Интернационал. Постоянно звучит также идиотический хоровой рефрен «Весна наступила. Грачи прилетели. На крыльях весну принесли», выдержанный в духе подчеркнуто патологически мажорных припевов бодрых пионерских песен… Замечателен финал — Я, превратившийся в идиота, поет песню Во поле береза стояла, в то время как Вова (загримированный под Ленина), — который вроде бы и погиб, но при этом «вечно живой», — в конце каждой фразы песни выскакивает на секунду «из-под земли» и кричит свое «Эх!» — то единственное, что вложено в его уста на протяжении всего спектакля (красноречивая немота лозунга!)…» .
Как видим, полистилистические фантазии современного автора имеют своей опорой некую семантическую традицию. Совершенно очевидно, что Шнитке не мог быть зрителем упомянутых нами эстрадно-поэтических представлений 40-х годов, в которых семантика 4-й симфонии Чайковского оказалась намертво спаянной одновременно с ленинской и патриотической темами. Вряд ли ему вообще было известно об этих представлениях. Но «семантизация» музыкального текста историей через полвека сделала возможным использование этой «цитаты» из симфонии Чайковского в окружении других «цитат» — революционных песен и в сопровождении ленинского образа.
Миф не умирает, но когда он уходит в толщу исторической памяти, на его месте почти обязательно возникает новый. К 80-м годам Чайковский снова стал объектом мифотворчества, однако на этот раз родиной мифа оказалась западная культура, а материалом послужило не творчество художника, а его судьба судьба, спроецированная на творчество.
Одним из первых определил это направление культовый балетмейстер авангарда Морис Бежар «Я не оставил живого места от женоподобного и салонного танцовщика. Я вернул лебедям их пол — пол Зевса, соблазнившего Леду. Мне осточертели «Лебеди» «Лебединого озера», и я создал балет «Лебеди», где три танцовщика с обнаженными торсами воплощали мифическую птицу». Фрейдистские прочтения с их неизбежным набором из «эдипова комплекса» и гомосексуализма становятся уделом следующего поколения. Наиболее заметен здесь опыт одного из лидеров авангардного балета 80-х годов Матса Эка. Его знаменитая интерпретация «Лебединого озера», хореографический текст которой построен на фрейдистской трактовке основных мотивов канонического сюжета, явственно отсылает к биографии композитора. В 1994 году свою версию предлагает на отчественной сцене Борис Эйфман в балете «Чайковский». Событие 1996 года — «Лебединое озеро» Мэттью Бурнса, о коем критики спешат предупредить «не нужно видеть в этой постановке исключительно гомосексуальную проблематику». Подобная рекомендация весьма красноречиво свидетельствует о неизбежности того, от чего она же сама пытается уберечь, и чему виной (увы!) вовсе не испорченное воображение зрителей. Если вернуться к вопросу о том, важно ли, какими ярлыками наделяют композитора досужие исследователи, то все эти примеры яркое подтверждение того, как поднявшаяся в научной и околонаучной литературе Запада 80-х годов дискуссия о причинах смерти Чайковского отразилась на судьбах его музыки в современном мире — ее трактовках художниками и восприятии слушателями.
Такова эта новая линия «означивания» музыки Чайковского, которая из чисто художественной сферы, и от проблемы некоего «выхолащивания» смысловой структуры текста, вышла на уровень идеологического переосмысления, ведь в современной культуре проблема гомосексуализма перестала быть юридической, медицинской или психоаналитической и осмысляется в рамках демократических идей толерантности, прав человека, равенства и т.д. Занимательно однако, как один и тот же художественный текст, например, «Лебединое озеро», в одно и то же время берется на вооружение на Западе — борцами за свободу сексуальных меньшинств, а у нас — борцами за диктатуру пролетариата. И повидимому совсем не случайно именно в 30-е годы, когда начало происходить тоталитарное «означивание» дискурса музыки Чайковского, один из его адептов, Джордж Баланчин, поставил свою знаменитую «Серенаду», в которой создал образец музыкально-симфонического балета. В этом жанре, отказываясь от прокламируемой сюжетности, от любого словесно формулируемого смыслового ряда, балетмейстер мыслил исключительно категориями формы, как хореографической, так и музыкальной. Не означал ли этот новый прорыв к классике косвенной полемики, творческого сопротивления наметившейся на родине хореографа тенденции? И не являлось ли продолжением этой борьбы уже с западными попытками присвоения дискурса творчество Баланчина в избранном им жанре бессюжетного, «белого» балета вплоть до 70-х годов, когда он поставил «Третью сюиту Чайковского»?
Музыка стремится к очищению, будучи поруганной словом, но неизменно присваивается все новыми и новыми властными дискурсами. Музыка Чайковского послужила и голливудским «хэппи эндам», и триумфам советских фигуристов, продолжает служить вездесущей рекламе и музыкальному бессилию рэперов. «Слово» Чайковского просвечивает в ней сквозь многолетние наслоения «чужих слов». Но судьба классики тем, наверное, и трагична, что любая эпоха готова уложить ее на свое прокрустово ложе. Ей на роду написано поругание, ибо таково фатальное притяжение ее красоты.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http //www.nlo.magazine.ru/
«