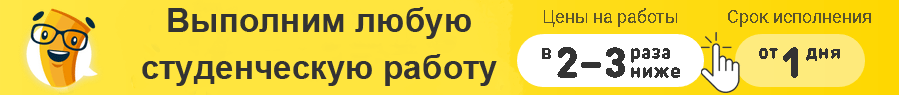Катарсис лук и лира» и гибель Пушкина»
А.А. Асоян, Омский педагогический университет, кафедра русской литературы XX века
О катарсисе пишут давно. Написано много. Уже в XVI в. аристотелевское замечание о том, что трагедия посредством сострадания и страха совершает очщение» [1, 1449 б], удостоилось около пятнадцати интерпретаций. Один из ранних комментаторов «Поэтики» Аристотеля К. Маджи толковал катарсис именно как очищение с помощью страха и жалости [2, с.10]. Позже Лессинг полагал, что страх, возбуждаемый трагедией, вовсе не тот, который вызывается несчастьем, предстоящим другому человеку, а «тот, который мы переживаем за себя в силу нашего сходства с личностью страдающего» [3, с. 570]. Соотечественник Лессинга гегельянец Ф.Фишер считал, что главная причина очищающего воздействия трагедии коренится не в сочувствии действующему лицу, а в возвышении зрителя над односторонностью противоборствующих сил, в осознании их обоюдной вины. Такая проницательность помогает зрителю возвысится до глубокого благоговения перед абсолютной нравственной волей. Возвышение над личным, постижение в частной судьбе неумолимого «порядка вещей» — вот в чем, с точки зрения Фишера, глубочайший эффект трагедии. Ницше скептически отзывался о подобных трактовках. Для него понимание катарсиса было неотделимо от «мистериального учения трагедии» — основного познания о единстве всего существующего, взгляда на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство — как радостную надежду на возможность разрушения заклятия индивидуации, как предчувствие вновь восстановленного единства [5, с.94]. Хор и трагический герой, указывал Ницше, воплощают двойственность, данную в самом происхождении греческой трагедии и обусловленную переплетением художественных инстинктов — аполлонического и дионисического [5, с.101].
«Трагедия, — писал он, — всасывает в себя высший музыкальный оргиазм (…) , но затем она ставит рядом с этим трагический миф и трагического героя, а этот последний, подобно могучему титану, приемлет на рамена свои весь дионисический мир и снимает с нас его тяготу; между тем, как, с другой стороны, она, при посредстве того же трагического мифа, в лице трагического героя способствует нашему освобождению от алчного стремления к этому существованию (существованию в состоянии индивидуации. — А.А.), к которой борющийся и полный предчувствий герой приуготовляется своей гибелью, а не своими победами» [5, с.140]. В этом приобщении через трагический миф к дионисийскому оргиазму, когда со зрителем «внятно говорит сокровеннейшая бездна вещей» [5, с.141] и он как будто «приложил ухо к самому сердцу мировой воли» [5, с.141], и в его спасении от этого оргиазма через эпическую определенность трагического героя Ницше прозревал сущность катартического эффекта.
Ницше настойчиво педалировал внеэтический характер катарсиса. Иронизируя над филологами, которые, по его словам, не знают толком, следует ли причислить катарсис к моральным или медицинским феноменам, он писал, что их представления о катарсисе опровергаются уже замечательной догадкой Гете, который признавался «Без живого патологического интереса мне никогда не удавалось обработать какое-либо трагическое положение, почему я охотнее избегал, чем отыскивал его. Не было ли, пожалуй, одним из преимуществ древних, — с удовлетворением цитировал Ницше вопрос поэта, — что и высший пафос был у них лишь эстетической игрой…?» [5, с.146]. Этот пассаж позволяет вспомнить об известном психологе Л. Выготском, который был склонен рассматривать катарсис как чисто эстетическую реакцию. Он полагал, что во всяком художественном произведении «нужно различать эмоции, вызываемые материалом, и эмоции, вызываемые формой» [6, с.204]. Художник, продолжал Выготский, всегда формой преодолевает свое содержание, и, таким образом, возникает «аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании находит свое уничтожение» [6, с. 204].
Рассуждения Выготского обнаруживают любопытное сходство не только с размышлениями Ницше о взаимодействии в греческой трагедии аполлонического и дионисического начал, но и содержанием эллинского символа «лука и лиры», обязанного своим происхождением Гераклиту из Эфеса, заявившему однажды «…враждебное находится в согласии с собой перевернутое соединение (гармония), как лука и лиры» [7, с.199]. Комментируя изречение мудреца, Вышеславцев писал «Только при полном раскрытии противоположных сил, при напряженности сопротивления может прозвучать гармония. Гармония есть нечто новое, никогда раньше не существовавшее, проявившееся вдруг там, где раньше был спор, уничтожение и взаимное вытеснение. (…) Лук есть система противоборствующих сил и чем сильнее напряжение отталкивающих полюсов, тем лучше лук. Уменьшить или уничтожить сопротивление обоих концов лука — значит уничтожить самый лук. Но тетива лука может превратиться в струну лиры. Лира построена на том же принципе, как и лук она есть многострунный лук, можно сказать, преображенный или «сублимированный» лук. Здесь мы может наглядно созерцать и слышать как из противоборства возникает прекраснейшая гармония» [8, с.245-246]. В качестве символа гармонии лира стала у эллинов атрибутом Аполлона, ибо оформление бытия и всего космоса по законам Аполлона мыслилось как мировая симфония [9, с.338]. В русской философской критике, начиная с Ап. Григорьева, гибель русского наперсника Аполлона — Пушкина — нередко толковали как победу Диониса над Аполлоном » …безумная отвага, — писал о поэте С. Булгаков, — овладела им, а не он овладел ею отсюда не только бесстрашное, но и легкомысленное, безответственное отношение к жизни, бретерство, свойственное юности Пушкина в его дуэльных вызовах по пустякам, как и последнее исступление «чем кровавее, тем лучше» (сказанное им между разговором Соллогубу о предстоящей дуэли)» [10, с. 275]. С. Булгаков и В. Соловьев видели в гибели Пушкина неотвратимую предрешенность, «жребий», судьбу. Отрицая в Пушкине единство человека и поэта, Соловьев утверждал, что «вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом» [11, с.277]. Эта мысль о «двух Пушкиных» была развита Булгаковым. «Не подлежит сомнению, — рассуждал он о Пушкине, — что поэтический дар его, вместе с его чудесной прозорливостью, возрастал, насколько он мог еще возрастать, до самого конца его дней. Какого-либо ослабления или упадка в Пушкине как писателе нельзя усмотреть. Однако остается открытым вопрос, можно ли видеть в нем то духовное возрастание, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, после 20-х годов, на протяжении 30-х годов его жизни? Не преобладает ли здесь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчественностью?» [10, с.283]. Вопросы Булгакова были всего лишь риторическим приемом, ответы он знал, в правоту своих предположений верил, видимо, не смущаясь, что сам Пушкин думал иначе «Духовный труженик.. » [12, т.10 с.345], — скажет он о себе перед концом жизни. Тем не менее на вопрошание философа откликнулся Вл. Ильин вся поэзия Пушкина — «переизбыток формальной красоты», «уравновешена» и «благополучна» только форма [10, с.311], «равновесие» куплено ценой дорогой жертвы Аполлону [10, с.310]; «вооружившись классической мерностью, — продолжает Ильин, — Пушкин заклинает мир, где царствует Геката и прочие хтонические божества, и призывает солнечного бога Аполлона против «чар ночных» Диониса, против всякого колдовства и наговора, даже против «метафизики», которою он клеймит эпитетом «ложной мудрости» [10, с.312].
Обращение к «Вакхической песне» в статье, посвященной Дионису и Аполлону, весьма уместно. Но действительно ли в этом стихотворении, как утверждал Ильин, «умерший Дионис воскресает в красоте Аполлона» [10, с.313]? Если бы — позволим себе столь неожиданное допущение, — в песне не было первых «дионисийских» стихов остальные, так сказать, «аполлонические» стихи звучали бы по-иному, по меньшей мере, декларативно и были не в состоянии передать полноту той гармонии, без которой бы Пушкин перестал быть собой… Гармония мира, как она явлена в пушкинской поэзии, зиждется на том же принципе, что и гераклитовский символ «лука и лиры». Сошлемся, к примеру, на стихотворение «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…», где «печальное сладострастье» словно призвано иллюстрировать, как «враждебное находится в согласии с собой» и как в результате этого рождается «нечто новое, никогда раньше не существовавшее, проявившееся вдруг там, где раньше был спор, уничтожение и взаимное вытеснение».
Нет, Дионис не умирает в Аполлоне, и потому «человек» и «поэт» живут в гении «нераздельно и неслиянно». Древние чутко ощущали это, и о глубине их мистической интуиции двуединства божества свидетельствуют мифы и аналогичные представления. Следуя им, автор «Сатурналий», Макробий сообщал «Солнце, когда оно находится в верхней, то есть в дневной полусфере, называется Аполлоном. Когда же оно в нижней, то есть в ночной, полусфере — то считается Дионисом…» [9, с. 327]. Еще интереснее рассказ Плутарха. В трактате «Об «Е» в Дельфах» он высказывает мнение, что таинственный знак на вратах Дельфийского храма обозначает число 5. В духе пифагорейской традиции Плутарх толкует «Е» как сочетание нечетной мужской тройки с четной двойкой и продолжает «Так вот, если кто-нибудь спросит, какое это имеет отношение к Аполлону, мы будем утверждать, что это относится не только к нему, но и к Дионису, которому в Дельфах отводится места не меньше, чем Аполлону. Действительно, мы слышим от богословов, говорящих и воспевающих, одно в стихотворениях и другое без стихов, о том, как негибнущий и вечный по своей природе бог подвергается собственным превращениям по велению некоей судьбы и разума. В одном случае он воспламеняет все в огненную природу, уподобляя Все Всему. В другом же случае, когда он разнообразно становится в разных формах, претерпеваниях и потенциях, как он становится в настоящее время, он именуется миром, если брать одно из самых известных его имен. Более мудрые, таясь от толпы, называют это превращение в огонь — Аполлоном, а по чистоте и незапятнанности — Фебом. Но становление его вида и устроения в воздух, воду, землю, светила, растения и животных они таинственно толкуют как претерпевание и изменение в смысле некоего растерзания и расчленения. Называют же они его в этом случае Дионисом…» [9, с.339]. Комментируя текст Плутарха, А. Лосев находит точное определение двуединству греческого божества. «Аполлон и Дионис, — пишет он, — не есть факт становления, но скорее форма этого становления, его направление, его оформление, его смысл» [9, с.345]. Такая трактовка метафизики религиозного феномена, вырастающего из глубины человеческой психики, словно учитывает самопознание поэта «В гармонии соперник мой Был шум лесов, иль вихорь буйный» [12, т.2, с.191].
С. Булгаков, Вл. Ильин как будто забыли пушкинское признание. Один из них, как христианин, полагает, что отнюдь не в » Поэте», а в » Пророке» Пушкин рассказал о своем высшем даре, где уже «не Аполлон зовет к своей жертве «ничтожнейшее из детей мира», не пророчественный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновению, но к встрече с шестикрылым серафимом, в страшном образе которого ныне предстает » поэту его истинная Муза [10, с.282]. Однако, считает Булгаков, пророческое творчество, извне столь «аполлоническое», уживалось в Пушкине с мрачными безднами трагического дионисизма, и его жизнь «не могла и не должна была благополучно вмещаться в двух раздельных планах» [10, с.287]. За дуэлью, если бы рок судил Пушкину стать убийцей, должна была начаться «новая жизнь с уничтожением двух планов, с торжеством одного, того высшего плана, к которому он был призван в «пустыне» (…) Трагическая гибель, — размышлял о Пушкине Булгаков, — явилась катарсисом его трагической жизни (…). И лишь этот спасительный катарсис исполняет ее трагическим и величественным смыслом, который дано ему явить на смертном одре в великих предсмертных страданиях. Ими он (…) освобождался от земного плана, восходя в обитель Вечной красоты [10, c.288]. Вл. Ильин пишет об «обывательском «Дионисе», к которому, по мнению автора, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», по слабости примыкает почти всякий артист, примыкал и Пушкин» [10, с.313] Булгакову, чья статья была опубликована к столетней годовщине гибели Пушкина, тотчас же ответил Ходасевич Вл. «Поэта, — резонно возражал он, — Пушкин изобразил в «Поэте», а не в «Пророке»… Не пророком, падшим и вновь просветленным, хотел жить и умер Пушкин. Довольно с нас, если мы будем его любить не за проблематичное духовное преображение, а за реально данную нам его поэзию…» [10, c.493] Принимая почти все возражения Ходасевича, невозможно согласиться с одним «… пророком Пушкин не был и себя таковым не мнил» [10, с.492]. Это утверждение, как и суждения Ильина об обывательском «Дионисе», опровергаются стихотворением «Поэт», и как раз потому, что именно в нем, а не в «Пророке» Пушкин изобразил пророчественное вдохновение поэта, обязанное отнюдь не «шестикрылому серафиму», а своей собственной природе в миг вдохновения поэт весь оказывается во власти двуединого божества, которое обнаруживает себя в полярных состояниях — «диком» и «суровом». Притом, если «дикий» Дионис полон смятения, то «суровый» Аполлон — звуков, и это тождество противоположностей всякое мгновение готово разрешиться в гармонию, лук в любой момент готов «сублимироваться» в «святую лиру», и тогда ее символами становятся такие оксюмороны, как «светлая печаль», «печальна клевета» и тому подобные парадоксальные выражения, где одно словно противостоит другому и где «дух» просветляет «страсть», как , например, в стихотворениях «Я Вас любил любовь еще, быть может..», «Нет, я не дрожу мятежным наслажденьем…», «Делибаш» и многие многие другие. В этом просветлении как раз и заключается катартическое воздействие, чьим истоком оказывается не «предстояние перед Богом» (которое на свой христианский толк приписывал Пушкину Булгаков), а жизненная полнота переживаний, извлекаемая из противоположных крайностей… «Всё, всё, что гибелью грозит. Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья…» [12, т.5, c.419]
Одной из важных загадок, которые возникают со смертью Пушкина, с пониманием причин его гибели, Булгаков считал вопрос — «каково в нем было отношение между поэтом и человеком в поэзии и жизни?» [10, с.280]. В стихотворении «Поэт» Булгаков слышал «страшный ответ» [10, c.281]. Ему казалось, что стихи Молчит его святая лира; Душа вкушает сладкий сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может всех ничтожней он… — как будто доказывают право поэта на личную незначительность [10, с.281]. Но вспомним слова Пушкина, он писал П. Вяземскому по поводу предания огню Т. Муром писем Д.Г. Байрона «Толпа жадно читает исповеди, записки еtс., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе (…) Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать суд свой собственный невозможно» [12, т.10, c.191]. Нетрудно догадаться, что тирада Пушкина не только о лорде Байроне, но и самом себе. Ни Булгаков, ни Ильин не захотели это заметить. А Вл. Соловьев, размышляя о предгибельных днях поэта, клонился, по существу, к суду над Пушкиным, полагая, что тот оказался невольником «гнева и мщения» и что именно «взрыв злой страсти» подтолкнул поэта к барьеру [11, c.293-294]. В отказе же смертельно раненого Пушкина от мести Соловьев видел последнюю в поэте жертву «языческого» ради «христианского» и толковал этот отказ как «духовное возрождение» [11, с.295]. Но была ли дуэль Пушкина вызвана «языческим» или «дионисийским» затмением и действительно ли» как утверждал Соловьев, «Пушкин был убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом» [11, с.294]? Чтимый поэтом М. Монтень сказал однажды «… проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства» [13, с.311]. Природной сущностью Пушкина была поэзия, а ведь давно известно, что она способна управлять биографией и превращать ее в судьбу. Только исполнив свои человеческие обязанности, Пушкин мог умереть, как умер, то есть, «по-христиански». Нам кажется, эта ситуация схожа с поведением Татьяны, «милого идеала» поэта. Лишь в своей верности долгу она могла сохранить способность любить «другого». Тождество противоположностей, символизируемое «луком и лирой», было залогом ее самостояния и катарсиса. И ее, и Пушкина. Идея экстатической полноты бытия в греческом духе пронизывала высокую культуру рубежа XVIII — XIX столетий [14, c.308-324]. «Да будет каждый греком на свой собственный лад! Но пусть он им будет» [15, с.305], — воскликнул в 1817 г. Гете. В России эти слова мог произнести прежде других Александр Пушкин.
Список литературы
[1] Аристотель. Поэтика. Собр.соч. В 4 т. Т.4. М., 1984.
[2] Миллер Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Аристотель и античная литература. М., 1978.
[3] Лессинг. Избранные произведения. М., 1953.
[4] Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
[5] Ницше Ф. Сочинения В 2 т. Т. 1 . М., 1990.
[6] Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987.
[7] Фрагменты ранних греческих философов / Подгот. А.В.Лебедев. М., 1989. Ч.1.
[8] Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994.
[9] Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом освещении. М., 1957.
[10] Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
[11] Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
[12] Пушкин А.С. Полн. Собр. соч. В 10 т. Изд. 2-е. М., 1957 — 1958.
[13] Монтень М. Опыты В 3 кн. Кн. 3. М., 1981.
[14] Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII — XIX вв. Античность как тип культуры. М., 1988.
[15] Гете И.-В. Об искусстве. М., 1975.
«