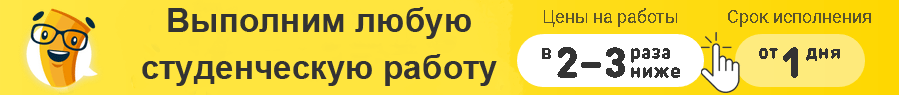Воображение и теория познания
Воображение и теория познания
Воображение и теория познания
Бородай Ю.М.
I. Постановка проблемы
1. Предыстория кантовской критики
Становление буржуазного общества осуществлялось под лозунгом все должно предстать перед судом разума». И неудивительно, что в эпоху Просвещения, явившуюся идеологической подготовкой буржуазной революции, вопрос о природе разума как высшей ценности и об его отношении к явно «неразумному» бытию оказался в центре внимания всех философских направлений. Неудивительно, ибо одно дело признать разум вообще в качестве высшей ценности (с этим были согласны все буржуазные идеологи — и рационалисты, и эмпирики, и материалисты, и идеалисты), но другое — определить, какие конкретные установления и действия «разумны», в чем критерий их истинности, что такое истина вообще и, в конце концов, что такое сам разум, каково его взаимоотношение с бытием. Таким образом, философия Просвещения оказывалась глубоко гносеологичной, в центр ее внимания так или иначе попадала (в отличие от античной космологически- «онтологической» натурфилософии или средневековой metafisica generalis) теория познания вообще и учение о методе науки в частности. Гносеологизм буржуазной философии вообще объясняется также и тем, что в эпоху окончательно расчленившегося атомизировавшегося целого, в эпоху, когда появился совершенно самостоятельный индивид, связанный с «гражданским обществом» лишь посредством своего «частного» интереса, ограниченного лишь формальными замками «права», мир (конечно, в сознании этого «частного» человека) окончательно раскалывается на «субъект» и «объект»; непреодолимый дуализм идеального и реального, мышления и бытия является исходным принципом буржуазной идеологии.
Итак, какова «природа» разума, что такое истина, а главное — каковы пути ее достижения? Философия эпохи Просвещения не смогла удовлетворительно ответить на эти вопросы.
Истина — это соответствие, адекватность субъективного представления, идеального, и объективного предмета, реального; соответствие субъективной мысли и объективной вещи. С этим тезисом согласны и рационалисты, и эмпирики, и идеалисты, и материалисты (иное дело, конечно, что при этом подразумевается под реальностью, объектом). Но как вообще может быть достижимо соответствие между столь разнородными сферами — субъективной мыслью и объективным предметом? Как субъективное случайное представление может стать необходимой и всеобщей, т. е. истинной мыслью? В чем критерий ее истинности?
Эмпирики принципиально не могли дать удовлетворительный ответ на поставленный вопрос. Исходя из номиналистической посылки о реальном существовании лишь единичных «предметов», они .рассматривали представления и возникающие в процессе их «обработки» всеобщие понятия как субъективный результат воздействия этих предметов на органы чувств. При этом новоевропейский эмпиризм, по существу, воспринял и развил путем разработки конкретных индуктивных методов средневековую схоластическую теорию образования понятий. Согласно этой теории, в реальности предполагается существование единичных вещей с необозримым многообразием их свойств, качеств, отношений и т. д. Человеческий разум способен извлекать из этой массы многообразных реальных предметов те свойства и моменты, которые общи множеству подобных существовании. Это и есть понятия, образование которых есть цель всякой науки. С помощью понятий, которые могут быть более или менее абстрактны, т. е. иметь больший или меньший «объем», действительность расчленяется на ряды, предметов, имеющих какой-либо одинаковый признак. Функция мышления сводится здесь исключительно к пассивному сравниванию и различению наличных чувственных многообразии. Закономерность может быть выявлена также лишь как результат этого пассивного сравнивания и классификации. Мы можем, например, обнаружить, что все до сих пор встречающиеся предметы, обладающие каким-либо данным свойством, обязательно обладают еще и другим общим для них свойством. Поэтому вновь встретившись с первым свойством, мы по аналогии можем заключать и о наличии второго.
В обосновании и разработке правил построения такого рода «синтетических суждений» и заключается суть эмпирического индуктивного метода, «метода открытий», этого, «нового органона», противопоставленного эмпириками рационалистической силлогистике, сводящейся лишь к доказательству того, что уже известно, к выведению того, что уже содержится в большей посылке (все люди смертны, следовательно, и каждый отдельный человек смертей) .
С точки зрения эмпиризма, задача не в том, чтобы раскрыть как из общей посылки выводится частное заключение, а в том, чтобы открыть саму эту общую посылку, т. е. дать новое всеобщее знание. И действительно, индукция дает новое знание. Но является ли это знание всеобщим, может ли оно служить общей посылкой, основой дедукции? Опыт, например, свидетельствует, что известные до сих пор организмы умирали. Но можно ли на этом основании утверждать, что все живое смертно? Этот вопрос (вопрос — как субъективные, единичные представления могут стать всеобщей, «объективной», истинной мыслью) оказался роковым для эмпиризма. Ведь у «индукции» нет конца. Конечно, сегодня мы можем признавать истинными суждения, что, например, все лебеди белы или что параллельные линии не пересекаются. Но где гарантия, что завтра к нам не прилетит лебедь черный или что там, где мы еще не можем проверить, все параллели пересеклись?
Эмпиризм необходимо вынужден был признать абсолютную относительность всякого знания, и неудивительно, что в своем логическом и историческом развитии неизбежно приходит к скептицизму или даже к солипсизму.
Но не лучше дело обстояло и у рационалистов, которые в противоположность индуктивным эмпирическим годам физического эксперимента исходили из идеала абсолютно достоверного «дедуктивного» математического знания. Здесь также со всей остротой встала все та основная проблема философии Просвещения — проема «нового» («нового» здесь в смысле не выводимого дедуктивно) всеобщего знания, проблема той не выводимой дедуктивно общей посылки, «аксиомы», которая сама является основой всякой дедукции вообще, в том еле и математической. У Декарта эта проблема прежде всего встает как проблема непосредственной самодостоверности, как проблема «начала». И в качестве критерия абсолютной и всеобщей достоверности такого начала», т. е. первоначальной, всеобщей посылки, «первой» мысли, из которой дедуктивно должно быть выведено все остальное знание, — в качестве такого критерия Декарт утверждает не «существование», не существующий вне и независимо от моей мысли предмет (даже ли таким предметом является мое собственное тело), «cogito ergo sum», т. е. саму мысль, само мышление. Само мышление должно, согласно Декарту, стать мерилом своей истинности, критерием своей достоверности. Таким образом, желая утвердить то, что необходимо и следовательно (хотя часто и против своей воли) разрушали номинализм и эмпиризм — убеждение в абсолютной объективности, необходимости и всеобщности ratio — Декарт (а вслед за ним и весь последующий рационализм) вынужден был отказаться от посылки, что представление, а затем и мысль (понятие) есть результат воздействия вне мысли существующей вещи, предмета.
Всякая первоначальная всеобщая и общезначимая идея, согласно последовательному рационализму, — это отнюдь не результат эмпирической индукции (в этом случае она не была бы всеобщей), но «интеллектуальная интуиция», «врожденная идея». В этом смысле рационалистическая теория познания вслед за средневековым реализмом» в определенном смысле снова возрождает платоновское учение об идеях, и, в частности, платоновскую теорию «воспоминания». Однако здесь сразу же следует подчеркнуть крайнюю условность такой совершенно внеисторической аналогии. Дело в том, что платоновская идея отнюдь не была идеей субъективной, идеей мышления, т. е. она отнюдь не была родовым, абстрактным, логическим понятием. Для Платона еще не существует противопоставления субъекта и объекта, идеального и реального. Поэтому его идея есть высшая форма самого существования, «предел» самого бытия; это категория самого бытия, а не мышления. Само греческое слово «идея» — «эйдос» — насквозь пронизано телесными интуициямя и может быть даже истолковано как своего рода особо тонкая «вещь» (вроде древнегреческой «души» или, скажем, богов, которые ведь тоже телесны, хотя их составляющая материя — особенно тонкая — это эфир или огонь). Платон еще не знает «гносеологии», а поэтому и «онтологии»; он не дуалист. И поэтому все попытки представить его учение об идеях в плане «априоризма» и «трансцендентализма» являются совершенно неправомерной фальсификацией, модернизацией его с точки зрения новоевропейского субъективизма и гносеологизма.
В противоположность Платону, буржуазный «рационализм» (так же как ,и «эмпиризм»), возникший на основе реального (экономического и социального) расчленения всякой целостности и, в частности, на основе окончательного противопоставления идеального и реального, изначально исходит из приципиального дуализма, что и обусловило весь ход последующего развития буржуазной философии. На всем протяжении своей истории буржуазная философия с неослабевающим упорством пыталась решить принципиально неразрешимую на буржуазной основе задачу — задачу «примирения», «воссоединения» субъекта и объекта, идеала и реальности, личности и государства и т. д., т. е. задачу «квадратуры круга» — преодоления собственного изначального дуализма, дуализма своей исходной всеобщей посылки.
Однако вернемся к докантовскому рационализму. Уже Декарт утверждает самодостоверность разума, тем самым закладывая основу учения об «интеллектуальной интуиции» и врожденных («априорных», если угодно) идеях. Но Декарт — отнюдь не солипсист; он дуалист. Существование «протяженной» субстанции для него столь же «достоверно», как и существование субстанции «мыслящей». Но каково взаимоотношение этих субстанций? Как сохранить принцип абсолютной автономности, самоопределенности разума (т. е. избежать эмпирического релятивизма) и в то же время решить проблему соотношения субъективного и объективного, души и тела, например? Ведь истина — это соответствие, адекватность всеобщей субъективной мысли и объективного, вне мысли существующего, эмпирического предмета. Иными словами, если разум действительно способен претендовать не на относительную, но на всеобщую значимость, то как возможна истина?
Все эти вопросы, поставленные Декартом, но четко не решенные им (в частности, вопрос о соотношении души и тела), вызвали к жизни характерное направление последекартовского рационализма — окказионализм (главный представитель — Арнольд Гейлингс), которое довело до крайности тенденции своего учителя. Душа, согласно окказионалистам, так же мало может влиять на тело, как и тело на душу. Материальный и идеальный миры сосуществуют, не оказывая друг на друга абсолютно никакого влияния.
Здесь следует отметить тот исторический факт, что окказионализм явился философией французской школы математиков. И естественно, что эту философию в первую очередь интересовал вопрос — как возможна всеобщая, общезначимая, идеальная «априорная» наука, т. е. математика? Окказионалисты по-своему ответили на этот вопрос. Согласно им, математика (как и идеальный мир вообще) развивается своим самодостоверным путем и абсолютно не зависит ни от какой эмпирии. Таким образом этот вопрос был решен. Но оставалась открытой другая не менее существенная проблема как возможна истина? Как возможно приложение всеобщих, идеальных математических положений к эмпирическим, вне разума существующим предметам? Ведь истина — совпадение идеального и реального.
Выход, очевидно, здесь один — предустановленная гармония. И действительно, принцип «предустановленной гармонии», впервые четко сформулированный Лейбницем, лежит, по существу, в основе развития всего рационализма Просвещения, начиная с Декарта. Особенно ярко он выступает в учении Спинозы о параллелизме атрибутов. Подобно математикам-окказионалистам, Спиноза утверждает, что ни один модус протяжения не может зависеть от какого-либо модуса мышления, и наоборот. Но каждому модусу мышления необходимо соответствует модус протяжения, ибо «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» ‘.
Таким образом, рационализм (в противоположность эмпиризму) «решил» проблему истины. Решил столь радикально, что неразрешимой оказалась другая проблема — как возможно заблуждение? Характерно, что на учение о параллелизме атрибутов яростно обрушились теологи, обвиняя Спинозу в том, что его философия вообще снимает всякое отличие между истиной и ложью, «добром» и «злом». И нужно отдать им справедливость- они нащупали больное место. Впрочем, этот порок «предустановленной гармонии» осознавал еще Декарт. Он мучительно бился над проблемой заблуждения которое всегда было слишком наглядным фактом), создавая теории о ясных, отчетливых и неотчетливых представлениях. Однако ссылка на неотчетливость представлений не спасала дела. Ведь, выражаясь языком Спинозы, каждый модус мышления адекватен модусу протяжения. И если представление «неотчетливо», очевидно, ему соответствует «расплывчатая» вещь.
Декарт нашел «выход» из положения. (Этот же «выход» в той или иной мере был использован последекартовским рационализмом, за исключением Спинозы, и, в частности, окказионализмом.) Оказывается, у человека есть не только разум, но и свободная эгоистическая воля со своим резко категорическим «да» и «нет». Именно она и есть источник заблуждения. Таким образом, внутренний недостаток разума заключается не в том, что он пассивен, созерцателен, но в том, что он недостаточно пассивен, не абсолютно созерцателен!
В «Тезисах о Фейербахе», в которых даны первые классически точные и четкие формулировки существа марксистской философии, Маркс писал «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувствительной деятельности как таковой».
Чтобы правильно понять суть этого важнейшего — первого — тезиса Маркса, необходимо, как нам представляется, учесть следующие соображения.
Формулируя первый тезис диалектико-материалистической философии, Маркс прежде всего ставил цель вскрыть главный недостаток именно материализма. (С идеализмом он рассчитался уже тогда, когда еще во многом был «фейербахианцем».) Однако то, что он говорит здесь о недостатке именно материализма, еще отнюдь не означает, что этот же самый недостаток не был присущ и идеализму, а именно — всему докантовскому идеализму.
И, во-вторых, говоря о том, что «деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом», Маркс имеет в виду не «идеализм вообще», а определенный, конкретный идеализм, а именно — немецкий классический идеализм, который начинается опять-таки именно с Канта, совершившего «коперниковский переворот» в философии.
Суть этого «переворота» следует искать не в «абсолютном трансцендентализме» и «априоризме», как это делают неокантианцы, «очищающие» Канта от «непоследовательного» допущения «данности», «вещи в себе». Априоризм не был новостью в эпоху, когда жил Кант; он был имплицитно присущ всему рационализму Просвещения.
Действительно «коперниковским» переворотом в философии было то, что Кант впервые разрушил миф о пассивной, созерцательной природе разума, человеческого сознания вообще. Кант впервые выразил (правда, в мистифицированной форме) то, что в современной марксистской теории стало «энциклопедической истиной», а именно «внешняя вещь вообще дана человеку лишь поскольку она вовлечена в процесс его деятельности, выступает в формах этой деятельности, поскольку в итоговом продукте — в представлении — образ внешней вещи всегда сливается с образом той деятельности, внутри которой функционирует внешняя вещь». Но что понимается под «деятельностью» в теоретической философии Канта?
2. Что такое предмет?
Кант не оригинален в постановке своего главного вопроса — как возможны синтетические суждения априори (как возможны чистая математика, чистое естествознание вообще и» наконец, метафизика как наука). Этот вопрос был своеобразным «перводвигателем» развития всей изначально дуалистической и гносеологической философии буржуазного Просвещения; заслуга Канта здесь лишь в том, что он «очистил» эту проблему от побочных и несущественных наслоений и придал ей классически четкую и строгую формулировку.
Как известно, работа просветителей завершилась выявлением непримиримой антиномии рационализма и эмпиризма, антиномии совершенно необъяснимой, мистической «предустановленной гармонии» (Спиноза, Лейбниц) абсолютного скептицизма, отрицания всех притязаний разума на всеобщность и необходимость (Юм). В постановке главного вопроса своей «Критики» Кант еще полностью остается на позициях этой просветительской философии, исходной аксиомой которой является убеждение в созерцательной, пассивной природе разума, — об этом свидетельствует уже тот факт, что Кант традиционно рассматривает знание как суждение. И неудивительно, что, стараясь тщательно исследовать и четко определить все условия и границы решения исходного вопроса. Кант полностью воспроизводит старую классическую антиномию рационализма и эмпиризма; воспроизводит, правда, уже в новой, своеобразной форме, которая в конечном счете и позволила ему искать реального (а не мистического — бог) выхода из тупика, позволила ему сформулировать уже действительно новый, резко выходящий за рамки созерцательной просветительской философии вопрос.
В чем же заключалась эта «своеобразная» форма? Для просветителей антиномия в конечном счете сводится к противоположности «априорных» всеобщих и необходимых мыслей и — эмпирических, бесконечно многообразных, единичных и случайных «предметов», существующих в онтологически присущей им, своей собственной предметной форме вне и независимо от субъекта.
Кант с первых же строк «Трансцендентальной эстетики» обрушивается на этот наивный «догматизм». Правда, «по традиции» он продолжает называть существующую вне и независимо от субъекта «вещь в себе» — «х-» — «предметом», но при этом он постоянно разъясняет, что все собственно предметные формы есть формы чисто субъективные и лишь постольку априорные. Кант объявляет субъективными и априорными не только формы рассудка (точнее, сам рассудок, ибо в нем нет ничего, кроме формы), но и формы чувственности — пространство и время. Таким образом «предмет» — в отличие от «вещи в себе», воздействующей на чувственность и данной нам в ее формах, т. е. в виде бесконечного интенсивного многообразия времени и пространства, — оказывается субъективным произведением. Он есть синтез чувственности и рассудка, и в этом смысле он — единственно доступная человеку истина. Предмет всегда есть предмет знания, вне знания есть не «предмет», но «вещь в себе».
Вне знания нет ничего, о чем мы могли бы иметь .какое-либо представление вообще. Поэтому трактовать истину как соответствие знания чему-то, находящемуся вне знания, согласно Канту, — нелепость. Вот что пишет он поэтому поводу «Что же имеют в виду, когда говорят о предмете, который соответствует познанию, и, следовательно, в то же время также отличается от него? Не трудно убедиться, что этот предмет должен быть мыслим только как нечто вообще равное х, так как вне нашего знания мы ведь не имеем ничего, что могли бы противопоставить знанию, как соответствующее ему».
Но снимается ли тем самым старая антиномия рационализма и эмпиризма? Нет. Она выступает здесь лишь в новой форме — в форме противоположности, принципиальной несводимости друг к другу чувственности и рассудка.
Просветительская теория познания спрашивала как «в возможна истина, т. е. соответствие всеобщей мысли и единичных вещей? Кант ответил истина возможна лишь в форме предмета, т. е. как соответствие рассудка (самой формы всеобщности и необходимости) и чувства (эмпирического многообразия ощущений, возникающих в априорных формах времени и пространства). Но тем самым не снимается старый вопрос — как возможно само это соответствие? У Канта эта старая проблема принимает лишь радикальную форму вопроса — как вообще возможен предмет, в чем «основание предметности»?
Предметность, согласно Канту, есть правило расположения ощущений в пространстве и во времени, которое заключает в себе применение чистого рассудка (категорий) и с помощью которого субъективные соединения восприятий получают объективный и всеобщий характер. Но как становится возможным применение априорных категорий, т. е. самой формы общезначимости и необходимости, к имеющим в конечном счете эмпирическое происхождение, хотя и данным в априорных формах времени и пространства, ощущениям? Ведь «наша природа такова, что наглядные представления могут быть только чувственными, т. е. содержат в себе лишь способ действия на нас предметов (читай — «вещей в себе». — Ю. Б.). В свою очередь, способность мыслить предмет чувственного наглядного представления есть рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один не был бы мыслим. Мысли без содержания пусты, а наглядные представления без понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо понятия делать чувственными (т. е. присоединять к ним предмет в наглядном представлении), а наглядные представления делать понятными (т. е. подводить их под понятия). Эти две способности не могут замещать своих функций одна другою. Рассудок не может ничего наглядно представлять, а чувства не могут ничего мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание», т. е. сам предмет в кантовском смысле этого слова.
Итак, налицо старая антиномия рационализма и эмпиризма; остается открытым все тот же старый вопрос «Как понять то обстоятельство, что природа должна сообразоваться с категориями, т. е. каким образом категории могут a priori определять соединение многообразия природы, не заимствуя этого соединения из природы?».
Докантовский рационализм не видел здесь иного выхода, кроме допущения «предустановленной гармонии». А поскольку «предмет» для него был отнюдь не субъективным произведением, т. е. не был лишь «явлением», «предметом знания», но существовал вне и независимо от всякого знания, — субъектом такой «гармонии» мог быть лишь бог.
Кант резко критикует подобное допущение и, как это не парадоксально звучит в его устах, критикует именно субъективизм, за те релятивистские выводы, которые на допущения подобной гармонии могут быть сделаны. Ведь у разных людей мысли могут быть противоположны.
Но коль скоро бог предустановил вечную гармонию мышления и бытия — все они истинны «Быть может кто-либо предложит путь средний. Именно допустит, что категории не суть мыслимые нами самими первые априорные принципы нашего знания и не заимствованы из быта, но представляют собою субъективные, внедрение в нас вместе с нашим существованием задатки мышления, устроенные нашим Творцом так, что применение точно согласуется с законами природы, с которыми имеет дело опыт… В таком случае я не мог бы сказать действие связано с причиною в объекте (т. е. необходимо, но принужден был бы выражаться лишь следующим образом я так устроен, что могу мыслить это представление не иначе, как связанным так-то. Это и есть то, наиболее желательно скептику, так как в таком случае всякое наше знание, опирающееся на утверждаемой нами объективное значение наших суждений, превращается в простую видимость, и не оказалось бы недостатка в людях, которые не признавали бы в себе и субъективной необходимости (которая должна быть чувственной необходимостью); во всяком случае ни с кем нельзя было бы спорить о том, что основывается только на характере организации того или другого субъекта».
Кант против предустановленной гармонии, и тем не менее… у него самого тоже нет иного выхода. Но кантовская «предустановленная гармония» оказывается принципиально иной, чем в просветительском рационализме; иной настолько, насколько своеобразным в кантовской «Критике» оказалось воспроизведение антиномии рационализма и эмпиризма. Ведь кантовская противоположность — это не противоположность знания и предмета, существующего вне и до знания, но противоположность внутри самого знания, внутри самого предмета, или, что с точки зрения Канта, то же самое — внутри самого субъекта знания.
Это значит, во-первых, что кантовская «предустановленная гармония» не нуждается в боге как опосредующем принципе. И, во-вторых, субъектом гармонии чувственности и рассудка может быть лишь сам человеческий субъект, носитель обоих необходимых, но в отрыве друг от друга совершенно пустых и бесполезных, «элементов» всякой предметности, всякой истины и знания вообще. Именно на этой почве оказалось возможным поставить тот вопрос, поиски ответа на который приведи к «коперниковому перевороту» в философии. Каков механизм синтеза чувственности и рассудка? Ведь чувственность и рассудок рядоположны и никак не связаны между собой.
Чтобы понять всю значительность этого кантовского вопроса, необходимо вскрыть ту трудно уловимую, но весьма существенную здесь мистификацию, уходящую корнями в созерцательность просветительской философии- в убеждение в пассивной природе человеческого познания, убеждение, от которого Кант никогда не мог до конца избавиться и которое сыграло с ним и с его философией немало злых шуток.
Нам может показаться странным то огромное значение, которое Кант придавал антиномии чувственности и рассудка, т. е. трансформированной антиномии эмпиризма и рационализма; то, что он находил почти непреодолимую трудность в проблеме соединения их. Ведь то и другое — определения субъекта! И, как показал Гегель, субъект (а следовательно, и формы его познания), не есть что-то ставшее, застывшее, но — сама деятельность, в которой все переходит во все. Поэтому чувственность «необходимо» рассудочна, а рассудок — чувственен и т. д.
Но для Гегеля проблема «чувственности» не представляет никакой «трудности» лишь потому, что он объявил нелепейшим предрассудком «вещь в себе». Чувственность, по Гегелю, не может быть пассивной, «воспринимающей», так как ей нечего воспринимать! Она так же, как и понятие, — изначально самодеятельна. Более того,в конечном счете, она лишь «недоразвитое» понятие; понятие еще не дошедшее до «самосознания» и лишь постольку производящее иллюзию восприятия чего-то другого, «страдательного» отношения к этому другому. На деле, это для чувственности — «свое-другое». То, что было так «просто» и «ясно» для Гегеля, ликвидировавшего все «иррациональные остатки» и постулировавшего абсолютное тождество бытия и мышления, — все это было далеко не «очевидно» Канту. Ведь он исходил из созерцательной философии Просвещения, и во многом разделял «предрассудки» этой философии. В частности, он разделял и тот предрассудок, что не только по существу своему лишь «воспринимающая» чувственность, но и сами рассудочные формы, категории — суть абсолютно пассивные, лишенные сами по себе всякой «самодеятельности» сущности, рядоположные чувственному многообразию, сами по себе никак не связанные с ним.
Более того, в своей трактовке категорий Кант еще в значительной степени остается под властью традиционной теории образования понятий как отвлечения («абстрагирования») свойств, «общих» ряду различных эмпирических «предметов», — и это несмотря на то, что уже само понимание Кантом «предмета», «явления» самым резким образом противоречит этой теории. Лишь там, где Кант наиболее радикально разрывает рамки просветительской созерцательности (в учении о продуктивной способности воображения), универсальные абстракции — метафизически застывшие и резко противопоставленные чувственности категории — не только теряют весь свой смысл, они оказываются просто ненужными. И тем не менее, предрассудки оказались столь сильны, что и после своей «Трасцендентальной дедукции чистых понятий рассудка» и учения о «схематизме», где обнаруживается, что метафизически застывшие и оторванные друг от друга «элементы» суть лишь эвристические принципы исследования деятельности сознания, даже и после этого Кант любовно разрабатывает свою метафизическую «таблицу категорий» и считает ее наиболее важным своим открытием. Это естественно, ибо новое содержание у Канта родилось на основе старых традиционных форм и в этих формах. И сам Кант не мог не путать это новое содержание с той старой формой, в которую оно было отлито.
Таким образом, Кант ставит вопрос, возникший на основе еще чисто пассивной, созерцательной трактовки познания. Но для того чтобы ответить на этот вопрос, он должен был преодолеть созерцательность.
Насколько трудным и буквально мучительным был для Канта этот шаг, свидетельствуют два текста «Дедукции чистых понятий рассудка» (вторая и третья секции, § 15-27), где впервые вводится и рассматривается понятие «продуктивной способности воображения». Характер переработки указанных разделов во втором издании «Критики» свидетельствует о том, что Кант «испугался» далеко идущих выводов, вытекающих из слишком оригинальной постановки вопроса. Во втором издании он «смягчил» свое учение о продуктивной способности воображения в духе традиционного рационализма, выпятив на первый план понятие «трансцендентальной апперцепции» — «я», трактуемого как «рассудок» вообще, в плане декартовского cogito ergo sum. Это дало повод последователям Канта (в частности — Фихте) приписать самодеятельность, «самоаффектацию» рассудку и тем самым истолковать философию Канта в духе последовательного идеализма. С Фихте, идеалистически «истолковавшего» кантовское понимание «самоаффектации», начинается «борьба» против «досадной непоследовательности» великого учителя — «вещи в себе». Протесты Канта против такого извращения не помогли. Таким образом, «религиозное» уважение Канта к рационалистическим предрассудкам Просвещения сыграло первую злую шутку с его философией. Оно привело к тому, что послекантовский немецкий идеализм с водой выплеснул и ребенка, имя которому было — целесообразная продуктивная деятельность воспроизводства отнюдь не идеальной «вещи в себе» в качестве предмета, «вещи для нас» — эта деятельность как основа сознания (трансцендентальной апперцепции) и сущность человека вообще. Показать, что «ребенка» звали именно так, и является целью данной работы.
3. Продуктивное воображение как квадратура круга. Произвол
Начиная разговор о роли продуктивного воображения в кантовской «Критике», следует сразу же подчеркнуть, что ходячие представления об этой таинственной «способности», как о способности человека «фантазировать», строить гипотезы, интуитивно «усматривать» что-либо и т. д., хотя и заключают в себе определенный рациональный смысл, в целом не совпадают с собственно кантовской постановкой вопроса.
Повторяем, основная и определяющая проблема кантовской «Критики» — это вопрос как становится возможным применение категорий, как возможен синтез чувственности и рассудка, каков механизм, движущая. Пружина этого синтеза? Ведь чувственность и рассудок (т. е. априорные доопытные категории и эмпирическое чувственное многообразие) рядоположны и никак не связаны между собой.
Где здесь выход? Выход, очевидно, один — отказаться от рядоположности и допустить некую высшую, мистически непостижимую сферу чувственного рассудка и, рассудочной чувственности, сферу эмпирической апостериорной априорности, случайной необходимости, всеобщей единичности! Итак, приходится предполагать сферу, где сходятся все начала и концы, где квадратура круга оказывается осуществленным фактом.
Здесь еще раз следует подчеркнуть, что утверждение в качестве, таковой сферы «трансцендентальной апперцепции», впервые постулированное Фихте, отбросившим «вещь в себе», а значит — все собственно эмпирическое, — основано на извращении кантовского учения.
Трансцендентальная апперцепция Канта — это абсолютно бессодержательное «я -мыслю», это чистый рассудок, разум, пребывающий в полной противоположности ко всякой эмпирии. «В синтетическом первоначальном единстве апперцепции… я осознаю только, что я есть. Этот акт есть мышление, а не наглядное представление … сознание о самом себе еще вовсе не есть самопознание». Т. е. самопознание, в противоположность абсолютно пустому, лишь формальному сознанию своего бытия, не есть акт трансцендентальной апперцепции, т. е. «я» лишь мыслящего.
Итак, «существуют два ствола человеческого познания, происходящие, возможно, из общего, но нам неизвестного корня, а именно, чувственность и рассудок; посредством первой предметы даются, посредством второго мыслятся». В одном месте Кант говорит об «общем корне» как «возможном», в другом — как о «существующем». Но этот корень «нам неизвестен».
Но действительно ли до такой уж степени «неизвестным» остался Канту этот «корень»? Послушаем самого Канта «В исследуемом нами случае, очевидно, должно существовать нечто третье, однородное в одном отношении с категориями, а в другом отношении с явлениями и обусловливающее возможность применения категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой-чувственным. Такой характер имеет трансцендентальная схема».
«Схема чувственного понятия («чувственного понятия»! — квадратного круга. — Ю. Б.)… есть продукт и как бы монограмма чистой способности воображения а priori». К этому можно добавить еще «Этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и чистой формы их есть сокровенное в недрах человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам едва ли когда-либо удастся проследить и вывести наружу».
Итак, схема, т. е. «продукт и как бы монограмма чистой способности воображения», есть. в то же время «схематизм нашего рассудка». Следовательно, способность воображения лежит в конечном счете и в основе «трансцендентальной апперцепции» — «я мыслю», рассудка как «я», «я», объединяющего все концы и начала «моего» сознания. Читаем Канта «Трансцендентальное единство апперцепции относится к чистому синтезу способности воображения, как к априорному условию возможности всякого сочетания многообразия в одном знании. Но а priori может происходить только продуктивный синтез способности воображения, так как репродуктивный синтез опирается на условия опыта. Следовательно, принцип необходимого единства чистого (продуктивного) синтеза способности воображения до апперцепции составляет основание возможности всякого знания, в особенности опыта».
Однако оставим пока в покое «продуктивную способность воображения» и попробуем предварительно рассмотреть ее «продукт» и «монопрамму» — «схему». ,,. Здесь следует, прежде всего, подчеркнуть, что именно это узловое понятие Канта (а через него и сама «продуктивная способность воображения») подверглось наибольшему извращению в послекантовской философии. Буржуазная философия (начиная с Фихте и кончая современными неокантианцами-без каких-либо исключений) не нашла ничего лучшего, кроме трактовки «схематизма времени» и самой «продуктивной способности» в плане ходячих пошлостей ассоцианистской психологии. Так, например, Виндельбанд пишет «Если индивидуум произвольно по законам ассоциации создает из материала своих восприятий новые сопоставления, то эту деятельность называют воображением…». Иронизируя над своим «великим устелем», Виндельбанд продолжает далее «Такова- «коперниковская точка зрения», открытие которой Кант выписывал себе и которая необходима для того, чтобы ждать понятным отнесение наших представлений к предметному миру». Следует подчеркнуть, что Виндельбанд — один из наиболее добросовестных буржуазных последователей Канта. Но как истинный «неокантианец» , конечно, усматривает «коперниковский переворот» отнюдь не в учении о способности воображения.
Согласно кантовским интерпретаторам схема есть не иное, как простая ассоциация, чисто пассивное усмотрение аналогии временных (а следовательно, и пространных, ибо «чистый образ всех предметов чувств вообщe есть время») отношений и — категорий.
Не будем, однако, здесь подвергать критике это ходячее представление о кантовской «схеме», но используют в качестве своего рода «эвристического» принципа выяснения подлинной сущности и значения продуктивной способности воображения, после чего у нас еще будет повод вновь, уже под другим углом зрения рассмотреть «схему». Такой «ход» представляется возможным тем более, что есть все основания предполагать, что и сам Кант использовал подобный «эвристический» прием, чем и дал повод к многочисленным недоразумениям «интерпретаторов».
Итак, мы можем чисто пассивно фиксировать аналогии между некоторыми временными и пространственными отношениями и категориями, всеобщими и необходимыми понятиями вообще. Например, «схемою субстанции служит устойчивость реального во времени», схема причинности «состоит в последовательности многообразия» и т. д.
Как нетрудно заметить, здесь воспроизведены все те же старые «схемы» классического эмпиризма, на основании которых Юм пришел… отнюдь не к утверждению необходимости и всеобщности рассудочных понятий!
И в самом деле, пассивная фиксация подобных аналогий еще абсолютно ничего не решает. Из случайного факта одновременности ощущений, например, не следует с необходимостью, что перед нами единая и общезначимая для всех вещь. Другой человек мог бы, возможно, произвести другую «ассоциацию», что и случается, когда «тень принимают за плетень». История познания доставляет бесчисленные примеры подобных «случаев».
Итак, не снимается все тот же старый вопрос-как возможен синтез чувственности (т. е. эмпирического многообразия ощущений, иманентно организованных лишь интуитивными формами времени и пространства; «организованными» лишь в том смысле, что все ощущения во времени и в пространстве) и рассудка (т. е. необходимых и общезначимых, но вневременных и внепространственных предметных форм). Иными словами, как случайная одновременность или последовательность наших ощущений может превратиться в объективно существующую я вещь или, скажем, причинное отношение между вещами?
Согласно постановке вопроса, имплицитно присущей во всей «Критике чистого разума», вывод здесь может быть один. Синтез чувственности и рассудка может быть произведен лишь в деятельности, а именно-в произвольной. и в этом смысле «слепой», субъективной деятельности продуктивной способности воображения. Ведь «предустановленную гармонию» по Канту творит не «Бог», а сам субъект. И эта гармония оказывается делом его произвола!
Мы сознательно употребляем здесь именно это «жестокое» слово — «произвол», чтобы подчеркнуть всю оригинальность кантовской постановки вопроса. Сам Кант еще предпочитает употреблять более мягкие термины- «самодеятельность», «свобода». И тем не менее «произвол» более точно выражает историческую специфику кантовского открытия, ибо Кант как буржуазный идеолог не дает,конечно, иной действительной деятельности, кроме слепой» деятельности «атомизированного», изолированного субъекта. Впрочем, и сам Кант часто поясняет «свобода, т. е. произвол!».
Итак, Кант утверждает «Синтез есть первое, на что мы должны обратить внимание, если хотим судить о первом происхождении наших знаний. Синтез вообще, как мы увидим это впоследствии, есть исключительно действие способности воображения, слепой, хотя и необходимой функции души; без этой деятельности, мы не имели бы какого знания, хотя мы и редко осознаем ее в себе».
«Соединение (conjunctio) многообразия вообще никогда не может быть воспринято нами через чувства, и, следовательно, не может также заключаться в чистой форме чувственного наглядного представления (т. е. в априорных формах чувственности. — Ю. Б.); ведь оно есть акт самодеятельности силы представления… мы не можем представить себе ничего соединенным в объекте, чего нигде не соединили сами; среди всех представлений соединение есть единственное, которое не дается объектом «вещью в себе». — Ю. Б.), а может быть произведено только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности».
Кант хорошо понимал всю колоссальную значимость своего открытия. Он писал «Что воображение (т. е. произвольная деятельность. — Ю. Б.) есть необходимая составная часть самого восприятия, об этом, конечно, -не мал еще ни один психолог. Это происходит отчасти вследствие того, что эту способность ограничивают только деятельностью воспроизведения, а отчасти вследствие то, что предполагают, будто чувства не только дают нам впечатления, но даже и соединяют их и производят образов предметов, между тем как для этого, без сомнения, кроме восприимчивости к впечатлениям, требуется еще нечто, именно функция синтеза впечатлений». «Итак, нас есть чистая способность воображения, как основная способность человеческой души, -лежащая в основании всех априорных знаний. При помощи ее мы приводим в вязь многообразие наглядного представления, с одной стороны, с условием необходимого единства чистой апперцепции (чистого рассудочного понятия вообще. — Ю. Б.), другой стороны. Эти крайние звенья, именно чувственность и рассудок, необходимо должны соединяться друг другом при помощи этой трансцендентальной функции способности воображения».
4. Продуктивное воображение и интеллектуальная интуиция. Конечность человеческого знания
Сразу же возникает множество вопросов. Если придать случайному совпадению данного порядка ощущений характер общезначимости и необходимости (т. е. придать этом ощущениям характер объективного предмета) — если все это есть дело слепого произвола,-то какова же цена этой «общезначимости» и «необходимости»?
Но, во-первых. Кант отнюдь не пытается утверждать, что «предмет» — это и есть вне и независимо от нас существующая «вещь в себе». Предмет, согласно Канту, это лишь «явление», продукт субъективной деятельности воображения это наше, человеческое произведение, хотя здесь необходимо подчеркнуть и то, что «продуктивное» воображение ничего не «продуцирует» в собственном юле этого слова, во всяком случае, ничего не «сочиняет». Его функция заключается лишь в произвольной деятельности синтеза, в возведении случайного эмпирического комплекса в ранг объективного предмета. Но в «-то и заключается его «продуктивность». Ибо произведенный в результате синтеза «предмет» уже больше не дается ни в каких эмпирических комплексах. В качестве необходимого и всеобщего он получает «идеальную» жизнь вне и до всякой эмпирии.
Данный вопрос можно рассмотреть с другой стороны. Предмет, несмотря на свой априорный (необходимый и всеобщий) характер, именно потому ,и является лишь субъективным произведением, что в основе синтеза эмпирического содержания чувственности и всеобщих рассудочных форм лежит произвол продуктивного воображения. В противном случае, т. е. если бы в основе этого синтеза лежал не произвол, а нечто само по себе необходимый предмет не был бы просто «явлением», но получил бы двойную характеристику как «веши для нас», так и «вещи в себе».
Последнюю возможность Кант предусмотрел, выдвинул опять-таки! «эвристическую» гипотезу божественной «интеллектуальной интуиции», т. е. интуиции (чувственности) не произвольно и слепо, но необходимо, органически соединенной с рассудком. Продуктом подобной «разумной интуиции» (или «интуитивного разума») был не «предмет» знания, не явление, но сама «вещь всеет такой интуиции был бы актом божественного творения. Допускать реальное существование субъекта подобного «творчества», согласно Канту, нет никаких оснований.
Здесь перед нами раскрывается кантовское учение о «конечности» человеческого сознания, что суть следствие конечности человеческого существа вообще, но прежде чем рассматривать это учение, уточним (и тем самым разграничим) понятия «интуиция», «интеллектуальная интуиция» и «продуктивная способность воображения».
а) Что касается «интуиции»-здесь все ясно. Интуиция — это чувственность, чисто пассивная воспринимающая способность. Ода дает нам эмпирическое многообразие ощущений-«материю наглядных представлений». Априорные формы самой интуиции время и пространство.
б) Существование «интеллектуальной интуиции», понятие которой было создано рационализмом Просвещения, Кант резко отрицает, ибо она покоится на ничем не объяснимой мистической «предустановленной гармонии» совершенно независимых друг от друга «вещей самих по себе» и наглядных представлений разума.
Чтобы понять здесь суть кантовской аргументации, необходимо помнить, что он везде исходит из главной антиномии философии Просвещения — антиномий рационализма и эмпиризма. Это относится и к интеллектуальной интуиции. В самом деле, всем развитием докантовской философии было доказано, что всеобщность и необходимость (т. е. единственно существенные характеристики разума) не могут быть получены из опыта, эмпирически. Всеобщность не дана непосредственному чувственному восприятию, она-продукт разума. Иными словами, всеобщность я необходимость не могут быть эмпирическими; они доопытны, внеопытны, априорны. Таков разум. В этом его великое преимущество, но в этом же-и огромный недостаток, ибо сам по себе он пуст, он не обладает содержательной наглядностью эмпирической чувственное (т. е. интуиции). Чтобы избежать этого порочного круга, просветительский рационализм вынужден был прибегнуть к понятию интеллектуальной интуиции, т. е. неэмпирического всеобщего и необходимого, а постольку внеопытного и доопытного разума, который вместе с тем является я наглядным созерцанием — доопытным, априорным созерцанием!
Естественно, что интеллектуальная интуиция оказалась невозможной без божественной предустановленной гармонии. В самом деле, если вне нас сами по себе существуют какие-то предметы, всеобщие и необходимые (т. е. разумные) определения которых мы не можем получить эмпирически из опыта, т. е. от самих этих предметов, то откуда же появляются у нас истинные, т. е. соответствующие этим вещам всеобщие и необходимые представления? Очевидно, их вкладывает в нас бог. Ведь если бы между вещами самими по себе и нашими всеобщими представлениями была непосредственная зависимость, т. е. если бы вещи аффицировали интеллектуальную интуицию,, то эта интуиция не была бы интеллектуальной, т. е. ее представления (например, о том, что в круге все радиусы равны) не были бы всеобщими необходимыми истинами, но лишь эмпирическими и Случайными, т. е. обладали бы лишь большей или меньшей вероятностью.
Если же отвергнуть «предустановленную гармонию», но сохранить «интеллектуальность» (всеобщность и необходимость интуиции), т. е. рассматривать ее не как боговдохновенную истину, пассивно воспринятую человеческим разумом, но как самоопределяющуюся деятельность, такая интуиция становится творчеством предметов, в которых определения «для нас» и «в себе» совпадают. В этом случае всякий «субъект» интеллектуальной интуиции сам становится богом, творящим мир, в своем представлении» что и «случилось» с Фихте, «преодолевшим» кантовский дуализм чувственности и рассудка, «явления» и «вещи в себе». То же самое, по существу, случилось и с Гегелем, но уже на более развитой диалектической основе. Здесь субъектом «творческой», самоопределяющейся интеллектуальной интуиции иступил уже не сам Гегель лично (кошмар солипсизма Гегелю уже не страшен), но абсолютный (т. е., проще гооря, общечеловеческий) дух-в себе и для себя сущее понятие, Для которого бытие есть лишь «свое-другое», «инобытие».
(в) Продуктивное воображение в определенном смысла-слова можно назвать и «интеллектуальной интуиции», ибо первое тоже есть сфера «чувственно-сверхчувственного», «априорно-эмпирического», «квадратного круга». Однако повторяем, Кант резко отвергает интеллектуальную интуицию и по вполне понятным приемам.
Во-первых, в отличие от боговдохновенной пассивной интеллектуальной интуиции рационализма Просвещения, способность воображения продуктивна, это-самодеятельность, самодвижение.
Но, во-вторых, в отличие от божественного (или идеалистического) «чувственного рассудка», кантовская «самодеятельность» есть не творчество в себе и для себя сущих вещей (всякого бытия вообще), но-лишь предметов знания, предметов нашей деятельности вообще, лишь явлений. Поэтому она-«воображение». Это интеллектуальная интуиция конечного существа, конечного познания.
В чем же выражается ее конечность? Согласно Канту, всякое знание есть созерцание (не в смысле пассивности, но в смысле наглядности), ,т. е. «наглядное представление». Если, например, «эвристически» допустить божественное знание, оно было бы «чистым созерцанием», т. е. наглядным созерцанием самого всеобщего. Это чистая интеллектуальная интуиция, или разумное, априорное, доопытное созерцание. Но доопытное созерцание не может быть воспринимающим (оно же доопытно!)-оно чистое творчество бытия из небытия. Существование такого созерцания, согласно Канту,-ни на чем не основанная гипотеза. Напротив, человеческое созерцание-по существу своему воспринимающее, эмпирическое, нетворческое и потому-конечное. Конечность его состоит в том, что априорные, всеобщие формы «накладываются» на него лишь как бы со стороны, а главное, произвольно. В результате произвольного синтеза эмпирической чувственности и самих по себе пустых, абсолютно бессодержательных форм всеобщности «творится» лишь явление. Таким образом, человеческое созерцание изначально ограничено рассудком, а рассудок-созерцанием. В этом-их конечность. Иными словами, конечное, эмпирически воспринимающее созерцание, чтобы стать познанием, всегда нуждается в определении воспринятого как той или иной сущности (это есть стол, камень, линия, движение и т. д.), т. е. нуждается в рассудке — способности суждения».
В дальнейшем при рассмотрении «схемы» продуктивного воображения мы увидим, что всякая сущность есть правило воспроизводства предмета, или, выражаясь гегелевским языком, мера. Конечность человеческого созерцания, согласно Канту, и заключается в том, что оно всегда ограничено этой субъективной, на основе произвола возникшей мерой; оно всегда ограничено «способностью суждения», которая «есть способность подводить под правила, т. е. различать, подходит ли нечто под данное правило (casus datae legis) или нет».
Здесь делался упор на конечность (ограниченность) созерцания. Но не следует думать, что, с точки зрения Канта, «разум» менее конечен.
Прежде всего следует подчеркнуть, что Кант не противопоставляет «разум» и «рассудок». Разум для него- это тот же рассудок, но претендующий на самостоятельную значимость вне синтеза с чувственностью, производимого деятельностью воображения. Доказать иллюзорность этих претензий и вместе с тем показать, почему подобные иллюзии возникают-задача трансцендентальной диалектики. «Рассудок и способность суждения имеют свой канон истинного, т. е, обладающего объективным значением применения… Между тем разум в своих попытках высказать что-либо о предметах a priori и расширить знание за границы возможного опыта, имеет во всех отношениях диалектический характер, и его мнимые утверждения вовсе не укладываются в правила».
Конечное человеческое созерцание ограничено рассудком. Но рассудок еще более конечен, ибо он абсолютно формален и сам по себе не имеет совершенно никакого содержания. Чтобы реализоваться в знании, он вынужден прибегать к окольным путям соотнесения с эмпирической чувственностью. А главное, на этом пути его ждет «грехопадение» синтеза с продуктивной деятельностью воображения, «закон» деятельности которой произвол! Конечность рассудка, иными словами, в том, что он лишь формально-всеобщее. Все свое содержание он заимствует из эмпирической чувственности. Лишь способ, которым это содержание становится всеобщим-есть дело рассудка. А в своей изначальной основе этот способ оказывается лишь функцией произвола продуктивной деятельности воображения, т. е. само «чистое», «априорное», доопытное всеобщее рассудочное понятие оказывается в конечном счете лишь застывшим, окостеневшим слепком живой творческой, но субъективно-произвольной продуктивной деятельности воображения. Однако вернемся к ранее поставленному вопросу.
5. Предмет как представление и «первообраз»
Что же может дать нам «априорная» предметность, «построенная» на основе субъективного произвола и поэтому не имеющая никакого отношения к «вещам в себе»? Ведь именно последние в конечном (вернее, было бы сказать — «первоначальном») счете воздействуют на нашу чувственность, и, чтобы жить (а не только рефлектировать»), нужно давать на их воздействие адекватный ответ. Произвол же способности воображения, на первый взгляд, может «продуцировать» лишь совершенно фантастическую и никак не адекватную «вещам в себе» картину. Но это — «на первый взгляд».
Придавая случайному сочетанию ощущений, в определенном порядке расположившихся во времени и пространстве, характер необходимости и всеобщности, т. е. закрепляя это сочетание в форме предмета, продуктивная способность воображения тем самым впервые создает этот предмет, вещь-конечно, не «вещь в себе», а «вещь для нас», «феномен», «явление». Естественно, продуцированный на основе произвольного синтеза предмет этот не адекватен «вещи самой по себе». Что это значит? Это значит, что предмет этот является лишь идеальной сущностью, но не реальным существованием. Причем «общезначимость» этой идеальной сущности закрепляется в результате фиксации («символизации») ее эмпирическими средствами языка. Кстати, здесь следует подчеркнуть, что в противоположность современным позитивистским концепциям, Кант не сводит язык к логическому или семантическому содержанию слов. Согласно Канту, язык как средство выражения вообще — это
а) тон (модуляция); б) движение (жестикуляция);
в) слово (артикуляция). На основе такого понимания языка Кант строит классификацию искусств а) музыка,
б) пластика, в) поэзия.
Итак, предмет не адекватен «вещи самой по себе». Он является лишь сущностью, но не существованием,бытием. И тем не менее, это, согласно Канту, тот единственный «объект», который противостоит «субъекту», о котором субъект вообще может иметь представление.
«Вещь в себе» не может противостоять субъекту (т. е. не может быть пред-ставлением), ибо она ему никак не дана. Ощущения, которые являются ее непосредственным продуктом, неотделимы от субъекта, неотличимы от него; они-сам субъект. Ведь если я, например, чувствую боль, это не значит еще, что я обязательно противопоставляю ее себе как некую вне меня существующую «сущность», «вещь», т. е. при этом я отнюдь не обязательно чувствую палку, резкий свет или «камень» в печени. Эта боль есть я сам. Но это не самый удачный пример. Здесь уже обязательно присутствует, по крайней мере, зародыш пред-ставления. А ведь существую бесчисленное количество чисто подсознательных восприятии, вызывающих инстинктивные ответные реакции, о которых я могу и не подозревать. Многие нервные связи вообще замыкаются не в головной коре, а в спинном мозгу. И об этих «ощущениях» мы не можем иметь никакого представления. Это уж истинно «вещь в себе».
Для того чтобы «отделить» ощущение от субъекта, его надо сначала «перенести» в сознание, т. е. синтезировать с формами рассудка. А этот синтез и есть функция «произвола» воображения. Только пройдя через горнило деятельности воображения и соединившись (в тон или иной степени «отчетливо» или «неясно» здесь «работают» теории просветительского рационализма) с априорными рассудочными формами, восприятия могут превратиться в противостоящий субъекту объект, предмет знания. Учитывая при этом, что уже в самом первоначальном акте своего «проявления», выступая еще в не предметной форме, еще до синтеза с предметными формами рассудка-восприятие уже «дано» в априорных (т. е. не принадлежащих самой «лещи в себе») формах чувственности, например, боль не как палка, которая меня бьет, а как чистая длительность «я», длительность той или иной интенсивности; учитывая все это, не следует удивляться, что наибольшую трудность представляет для Канта вопрос — как вообще мы можем образовать идею «вещи самой по себе»? Ведь, повторяем, единственный объект, который нам «дан», предстоит перед нами-это созданный произволом нашей субъективной деятельности предмет, явление.
Будучи однажды создан и выражен в языке, предмет получает самостоятельную жизнь; но его «жизнь» есть жизнь лишь сущности, но не существования. Он — предмет лишь возможного опыта.
«Предмет возможного опыта» следует отличать от чистых трансцендентальных «предметов» (точнее уже не «предметов», а «идей», например, субстанция вообще, причинность вообще и т. д.). Чистые трансцендентальные «предметы» не являются предметами в собственном смысле этого слова, ибо здесь невозможен синтез с чувственностью. Иными словами, относительно них невозможен никакой опыт. Поэтому чистые трансцендентальные категории (например, субстанция, качество, количество, отношение и т. д.) следует отличать от предметов («чувственных понятий») сущностей в подлинном смысле этого слова. Красную треугольную вещь, например, мы можем представить. Но представление качественно-количественной субстанции вообще невозможно. Она остается лишь «регулятивной» идеей спекулятивного разума. «Абсолютное целое всех явлений есть только идея, так как мы никогда не можем составить представления об этом целом, и потому оно остается проблемою без всякого разрешения».
Итак, предмет имеет эмпирическое происхождение в том смысле, что это чувственная «данность», возведенности и всеобщности понятия. Но став таковым, предмет порывает со своим эмпирическим происхождением и становится условием и правилом всего будущего эмпирического опыта. Он становится образцом, «прообразом» (ср. платоновская идея), идеальным предметом. Будучи произведен однажды, этот предмет — прообраз (ниже мы увидим, что содержание этого прообраза-«схема») бесконечно воспроизводит себя в бесчисленных «ликах» чувственной давности — существования.
Обращение к Платону здесь не случайно. Платон, пожалуй, единственный философ, говоря о котором, Кант считает нужным употреблять эпитет «великий». К слову сказать, в противоположность неокантианцам. Кант не старается «подтянуть» Платона «под Канта». Напротив, он достаточно определенно отграничивает свои «трансцендентальные идеи» от «идей» платоновских. Раздел «Об идеях вообще» он поэтому и начинает с разговора о разных значениях слов, а именно-слова «идея».
Любопытна кантовская характеристика платоновских «идей». Кант, несомненно, весьма одобряет то, что «Платон находил идеи преимущественно в области практической деятельности, т. е. в деятельности, основанной на «свободе». Однако «у Платона идеи суть первообразы самих вещей («вещей в себе». — Ю. Б.), а не только ключ К возможному опыту, каковы категории». При этом знаменательно, что именно здесь Кант критикует Платона за идеализм! «В этом отношении я не могу следовать за ним, точно так же, как не могу согласиться с его мистической дедукцией идей и с преувеличениями, которые привели его как бы к гипостазированию идей; впрочем, возвышенный язык, которым он пользовался, развивая это учение, вполне может быть заменен более спокойным и более соответствующим природе вещей изложением».
Итак, предмет, согласно Канту, содержащий в себе произвол воображения, не адекватен «вещи самой по себе», бытию, существованию. Но сознательная (т. е. представимая) «встреча» с бытием для человека становится возможной лишь «в горизонте» предметности.
Здесь следует подчеркнуть, что Кант в своем учении о синтезе воображения раскрыл механизм того в общем-то довольно тривиального факта, который с удивлением был обнаружен психологией конца XIX в. и послужил основой целого направления — «гештальт-психологии». Этот факт заключается в том, что образ представления никогда не «слагается» из отдельных компонентов, но, напротив, целостный образ у человека всегда в той или иной форме предшествует осознанию его составных частей. Причем, после представления составных «элементов» (т. е. уже вторичного акта) можно вновь вернуться к целостному образу и уточнять, корректировать его, т.е. признать в нем новый, уже иной целостный предмет, например, уже не круг, но незавершенный эллипс, не дерево, но лишь картонную декорацию, и т. д. На выявлении в эксперименте этого факта, собственно, и начала строится «гештальт-психология».
Этой особенностью представления во многом объясняются и те трудности, которые встают перед кибернетикой, поставившей сегодня задачу сконструировать системы, способные «узнавать» хотя бы самые простейшие (например, буква) образы. Ведь кибернетические системы построены на механическом принципе «комбинирования элементов. Их можно заставить «мыслить», но в них нельзя вложить свободного, «самодеятельного» воображения, они никогда не смогут пред-ставлять.
6. Номинализм или реализм?
Налицо парадокс предметность-это необходимость и всеобщность, возникшая как продукт субъективности и произвола воображения. Но именно с этой парадоксальной точки зрения Кант попытался решить многовековой спор номинализма и реализма (рационализма и эмпиризма). Оба они оказались неправы. Оба в конечном счете вынуждены апеллировать к богу. Номинализм — к мистически-иррациональному, непостижимому разумом волюнтаристическому богу; реализм — к рационалистическому, лишь разумом познаваемому богу Фомы Аквината — субъекту творческой «интеллектуальной интуиции».
Как и реализм. Кант постулирует доопытность и всеобщность «универсалий». Он самый резкий противник сведения их лишь к «nomina» — пустым названиям, знакам. Но, в противоположность реализму, у него эти универсалии существуют не реально (вне и независимо от субъекта), но лишь как функция субъекта, да притом еще произвольная, «самодеятельная» функция.
Как и номинализм. Кант постулирует «реальное существование» лишь эмпирического, того, что аффицирует априорную чувственность и составляет ее многообразие. Но, в противоположность номинализму, это «реально существующее» оказывается у Канта не самым близким и доступным субъекту «объектом», но, напротив, чем-то самым далеким, да и вообще адекватно непостижимым — «вещью в себе». Ведь «объектом» у Канта оказывается не «вещь в себе», но лишь «сущностная» универсалия. Не эмпирия предшествует универсалии, но, напротив, лишь в горизонте универсалиями мы впервые можем сознательно (т. е. с открытыми глазами») встретитъ эмпирическое «существование». Иными словами, не глаз как физиологический орган дает нам видение, но- понятие, а в конечном счете лишь способность воображения, есть наш подлинный «глаз», наше зрение. Без понятия (точнее — без воображения) самый совершенный орган зрения слеп. Например, орлиный глаз устроен так, что он «может» видеть неизмеримо больше и неизмеримо лучше, чем глаз человеческий. И тем не менее он не видит и тысячной доли того, что видит полуслепой, прикрытый стеклами очков глаз цивилизованного, обладающего сложнейшей системой «произвольных») понятий (предметов) человека.
Таким образом. Кант перевернул всю традиционную теорию образования понятий как абстрагирования «свойств» реальных, вне и независимо от нас существующих предметов; теорию, лежащую в основе всей до-кантовской философии и логики. Согласно его точке зрения, понятие не продукт, но субъект представления; более того, только в произвольной синтезирующей деятельности воображения, как бы «накладывающей» на бесконечное эмпирическое многообразие времени и пространства (многообразие — вне этой деятельности совершенно «подсознательное») всеобщие и необходимые формы понятия, — представление впервые и возникает как представление. Без понятия (а в конечном счете — без воображения) мы имели бы перед собой, выражаясь языком Гегеля, лишь «темную ночь, в которой все кошки серы». Да так оно и бывает с людьми, не имеющими тех или иных понятий (это тоже один из тех «удивительных» фактов, которые обнаружила -современная экспериментальная психология). Ведь если у человека нет никакого понятия о том или ином предмете, то последний для него просто не существует. Попробуйте, например, среднего европейца заставить отличить, скажем, один китайский иероглиф от другого. А ведь филологу эта разница бьет в глаза, так же как .фальшивая нота режет слух музыкально развитого человека.
«Всякое знание требует понятия, каким бы несовершенным или темным ни было оно», — утверждает Кант. И в этом со своих позиций ему вторит Гегель, именно в этом смысле истолковавший библейское выражение «Вначале было слово».
7. Логическая необходимость и «вещь в себе». Миф
Вернемся снова к парадоксу «произвольной» необходимости и «субъективной» всеобщности. Постараемся, в согласии с Кантом, ответить на вопрос-зачем нам они такие?
Следствием субъективного происхождения предмета является то, что он, в противоположность «вещи в себе», существованию остается лишь сущностью, «понятием». А необходимость понятия не есть необходимость «существования», не есть необходимость «вещей самих по себе». Это логическая, или априорная, т. е. «доопытная» необходимость. Такая необходимость может быть выражена, например, формулой если А есть В, то С есть Д и. т. д. Следует подчеркнуть, что необходимость перехода от А к Д и далее здесь, так сказать, «фатальная», ибо она априорна и неумолимо действует независимо от чего бы то ни было. Абсолютно независимо! Но именно в этом-то и заключается ее главный порок, ее «первородный грех» — печать «незаконного брака» с произволом воображения. Она — лишь логическая необходимость, но не необходимость бытия.
В самом деле, раз А есть В, то с абсолютной необходимостью «работает» вся система точно, как в математике. Ну а если А — не есть?
Например, априорно (в результате цепи логических умозаключений) установлено, что если А (луна, «сама Во себе») действительно есть В (т. е. действительно есть тот предмет, которому, согласно нашему сегодняшнему убеждению, присущи данные математически точные законы движения в солнечной системе), то необходимо следует Д (необходимо следует, что 10 мая 2000 года в 12 часов 8 минут московского времени произойдет солнечное затмение).
Итак, если А есть В! — на этом держится вся сложил цепь логической необходимости. Ну, а если А — не есть..? Ведь эмпирия бытия не зависит от нашего сознает и она отнюдь не обязана (коль нет «предустановленной гармонии») считаться с необходимостью, a priori установленной «самодеятельностью» продуктивного воображения. Что если луна столкнется с огромным метеоритом или разрушится согласно неизвестной нам пока внутренней «необходимости», если она, наконец, окажется чем-то существенно иным по сравнению с нашим сегодняшним понятием (предметом) луны, что и обнаружится впервые, скажем, именно 10 мая 2000 года обнаружится в том, что затмение не состоится! Что если…
Математика не допускает подобных «метафизических» вопросов. Она независима от «низменной» эмпирии. Но ведь и эмпирия независима от математики. Ведь эмпирия, в отличие от сущности, — существование! — и существует она «сама по себе», ежедневно и ежечасно опровергая и тем самым поправляя, а главное, направляя математические построения, поскольку последние хотят быть приложимыми к чему-либо существующему, а не оставаться лишь чистой математикой, чистой и непорочной необходимостью и всеобщностью. Эта «ущербность» математического знания буквально «шокирует» современных неопозитивистов, противопоставивших «метафизике» идеал строгой «научности» и математической точности Ведь, согласно Б. Расселу, оказывается, что «математика есть наука, в которой мы не знаем ни того, о чем мы говорим, ни того, истинно ли то, что мы утверждаем».
Итак, всякий предмет (как и. всякая предметная, логическая необходимость) есть предмет идеальный или, что то же самое, не есть «вещь сама по себе». В самом деле на протяжении истории развития общества (а следовательно, и сознания) человеческая продуктивная способность воображения, например, создала довольно значительное число различных «предметов» под названием «луна». Одно дело луна в представлении, скажем, древнего грека эпохи родового строя, который и видел ее в ином образе, чем мы, а именно — с глазами, ртом и прочими атрибутами живого человеческого лица. Ведь антропоморфизм был когда-то не просто теорией, а способом («схемой»!) представления. Мы уже не сможем увидеть этой «луны», сколько бы ни старались. Ибо даже воображая себе лунный нос, мы знаем, что это лишь воображение. Переход от первоначального целостного образа к новому — тоже целостному! — образованию — процесс необратимый. Обнаружив, что перед нами незавершенный эллипс, мы не можем заставить себя вновь увидеть в нем круг.
Совсем другое дело луна в представлении, скажем, современного обывателя, хотя физиологическое строение его глаза то же, что и у древнего грека. И уж совсем иную «луну» знает современный астрофизик.
Было много «предметов» под названием луна. Возможно, в процессе дальнейшего уточнения сегодняшнего целостного представления (гештальта) появятся и новые предметы этого рода. Но луна «сама по себе» была, есть и будет… луной «самой по себе». Иными словами, банальная истина (но не для гегельянцев, конечно!) — бытие не есть сознание, сознание не есть бытие. Т. е., конечно, с точки зрения «онтологии», космически-метафизической спекуляции чистого, не обремененного никакими представлениями разума, — бытие и сознание тождественны. Но поскольку человек хочет познавать, вообще сознательно и лишь постольку свободно действовать, он должен отличать идеальную сущность от реального существования, от «вещи самой по себе», от бытия. И лишь это различение впервые дает человеку стимул к собственно теоретическому (в отличие от чисто прагматической, утилитарной и, отсюда стихийной слепой деятельности человека родового или раннерабовладельческого общества) познанию, стимул к постоянному исправлению и уточнению своих первоначальных представлений.
Более того, это «различение» и есть тот колоссальный .качественный скачок выделения человека из природы, становления собственно человека как «существа мыслящего». Конечно, само это «различение» предполагает акт труда. Но мы не ставим этот вопрос, ибо рассматриваемый здесь Кант был далек от «сознательной» его постановки, хотя, как мы увидим дальше, вполне определенные «догадки» у него были.
В историко-философском плане здесь огромный интерес представляет проблема возникновения философии, отчленения ее от прагматически-фетишистского, антропоморфического мифа, — вычленения, происшедшего на основе разложения в результате развития производительных сил родовой общины, а следовательно, и расчленения первоначально целостного фетишистского, прагматически-мифического первобытного сознания.
Современный человек видит в мифе лишь продукт воображения. И иначе он не может, как не может видеть он и луну с человеческим носом. Но для первобытного человека миф был отнюдь не продукт свободной фантазии «художника». Первобытный человек вообще еще слишком мало отличал свое воображение от реального существования, себя самого (со всем своим сознанием) от природы в целом. Миф для него был целостной, окончательной, единственно реально существующей (идеально-реальной, в смысле абсолютной тождественности обоих компонентов) действительностью. Поэтому возникновение философии (рефлексии вообще), явившейся свидетельством распада мифа и рождения уже в некоторой степени размышляющего человеческого индивидуума, было колоссальным шагом вперед.
О том, что древняя натурфилософия возникла и развивалась в постоянной борьбе с «единовластием» мифа, свидетельствуют, например, страстные выступления всех древнегреческих натурфилософов, а затем софистов, против «ортодоксальной» мифологии. Сократ, например, который, подобно ранним буржуазным просветителям, хотел, чтобы все предстало «пред судом разума», — ибо только разум есть высшее благо, — был даже приговорен к смерти за «подрыв» старинных мифологических родовых традиций, на которых держался уже начавший разлагаться Афинский полис. Гераклит (а ведь это был типичный аристократ и по происхождению — из царского рода, по убеждениям считал Гомера чуть ли не самым вредным злодеем за то, что тот «пропагандировал» мифологию.
Однако было бы крупнейшей ошибкой поддаться соблазну принять речи древнегреческих мыслителей за «чистую монету». Несмотря на подчас страстную борьбу с мифом, античная философия не вышла за его пределы. Можно сказать, что вся античная философия, включая неоплатоников (предтечу христианства), лишь рефлектировала по поводу все того же древнего «пралогического» и когда-то монолитно целостного мифа, тем самым рационализируя его. При этом должно быть ясно, что вышеупотребленное словечко «лишь» нужно принимать «со щепоткой соли», ибо это «лишь» обозначает огромную историческую эпоху в развитии человеческого сознания. (Масштабы здесь весьма громоздки. Ведь слово лишь можно употребить и по отношению к буржуазной философии, которая, как выяснил еще Фейербах, в значительной своей части только рационализировала миф христианский.)
II. Кант и немецкий идеализм
1. Диалектика слова «есть». Кант и Гегель
Мы выяснили, что, согласно Канту, предмет, произведенный априорным синтезом воображения, есть предмет идеальный, несуществующий. И тем не менее он становится орудием преобразования самого существующего. Ибо, лишь создав идеальный предмет, человек впервые получает возможность познания в собственном смысле этого слова. Создав идеальный предмет, человек впервые получает сферу, в которой он может встретить существование. Лишь в «горизонте» идеального предмета-понятия «стул», например, мы можем встретить тысячи самых различных и подчас совершенно непохожих друг на друга эмпирически существующих «стульев». В этой сфере впервые может реализоваться самое «непонятное» слово языка — «есть». Слово, ставшее в формальной логике пустой связкой, обозначением тождества субъекта и предиката.
Создав идеальный предмет, человек впервые получает критерий классификации (единицу измерения, выражаясь языком математики) бесконечного и непрерывного пространственно-временного чувственного потока. Да, собственно, лишь при наличии идеального «предмета-единицы» (а следовательно, и упорядоченного дискретного «многого») впервые становится возможным не подсознательное, а именно сознательное восприятие непрерывного чувственного потока ощущений.
Неважно, что «предмет-единица» не адекватен «непрерывной» вещи самой по себе. У него другая роль. Он становится мерой, принципом оценки, масштабом. Ведь неважно, что мы применяем в качестве единицы, например, линейных или весовых измерений сантиметр или дюйм, килограмм или фунт (дюймовую или метрическую системы).
Килограмма как такового — «в себе» — не существует. Это идеальный предмет, предмет «для нас». Но лишь ;, «в горизонте» этого идеального предмета мы впервые можем «встретить», скажем, кусок железа весом в килограмм (точнее, примерно в килограмм, ибо даже искусственно созданный платиновый эталон есть килограмм лишь с очень высокой степенью приближения), который «для удобства» мы назовем одним словом «гиря» — да и воспринимать его уже будем не просто как «железо», а как «гирю», которая может быть и не железной, но медной, пластмассовой и т. д. — это для данной направленности нашего представления несущественно.
Здесь приоткрывается «тайна» гегелевской диалектики тождества и различия. Она заключается все в том же словечке «есть», благодаря употреблению которого в качестве «связки» суждения, килограмм становится куском Железа, давлением пара, упругостью пружины и т. д.
Мы не будем здесь анализировать «Логику» Гегеля. Укажем лишь, что присущая ей мистификация заключается в том, что изначальное противоречие смысла (понятия) слова «есть». Гегель «снимает» в «учении о сущности» таким образом, что «есть» оказывается лишь Логической функцией «связки», тождества различного. Таким образом противоречие «сохраняется». Но «есть» здесь уже совершенно не при чем. Это уже противоречие чистой «сущности», понятия. Изначальное «есть» (бытие) , «снимается» до такой степени, -что становится «лишним словом», чем-то вроде суеверия, пережитка. Здесь Гегель, » конечно, опирается на «факты», ибо поскольку «есть» становится лишь логической функцией, оно действительно начинает выпадать из языка. Мы говорим «лежит медная гиря», а не «лежащее есть медное есть гиря». И, однако, следует подчеркнуть, что все это становится возможным лишь постольку, поскольку «есть» приобретает логически функциональный смысл, т. е. начисто лишается своей изначальной противоречивости. Здесь обнаруживается софистика гегелевских «переходов». Противоречивое бытие становится возможным превратить в противоречивую сущность лишь постольку, поскольку с самого начала бытие было взято как понятие, «сущность». «Есть» с самого начала не принималось в расчет, только называлось оно там «бытием». Весь переход оказывается на поверку лишь сменой вывески.
Особенно наглядно эта гегелевская мистификация проявляется там, где Гегель из сферы чистой логики переходит к рассмотрению природы, религии, права. Маркс по этому поводу писал «То бытие, которое Гегель снимает, переводя его в философию, не есть вовсе действительная религия, государство, природа, а религия в том ее виде, в каком она сама уже является предметом знания, — догматика; то же самое относится к юриспруденции, к науке о государстве, к естествознанию».
В самом деле, в чем заключается изначальная противоречивость «понятия» «есть»?.. Да в том, что оно не есть понятие, не есть идеальный предмет, сущность; в противоположность всем «остальным» понятиям оно «само по себе» беспредметно, оно не может быть предикатом в суждении. Но поскольку мы вообще можем представлять что-либо лишь в форме понятия (предмета, противостоящего субъекту), «есть» становится для нас изначальным источником всех иллюзий, т. е. «идей» (в отличие от предметных понятий), поскольку последние рассматриваются как реальные, представимые и предстоящие нам предметы. В качестве таковых «есть», т. е. идея бытия вообще, «представляется» в виде «бога», «субстанции вообще», «самоопределяющейся причинности вообще» и т. п. «беспредметных предметов», «самодеятельных и самоопределяющихся понятий». Но все это «суть только вещи», пишет Кант, и человек «с помощью идей не познает никаких новых предметов, кроме тех, которые познал бы согласно своим понятиям». Поэтому «мы назвали диалектику вообще (т. е. абсолютную диалектику идей. — Ю. Б.) логикою иллюзии-«. «Синтетические положения, прямо полученные из понятий (имеются в виду идеи. — Ю. Б.) суть догмы».
Итак, «есть» не есть понятие. Но представлять, осмыслять мы его можем лишь в форме понятия. Эта иллюзия «понятийности» (предметности) бытия самого по себе и послужила основой всей гегелевской идеалистической мистификации. Гегель делает началом всей своей, спекулятивной системы бытие как понятие, как сущность. а И неудивительно, что все противоречия у Гегеля легко разрешаются («снимаются») в понятии (в мышлении), хотя реально существующей действительности их разрешение оказывается далеко не таким простым делом? Более того, Гегель и вообще не ставит вопроса о разрешении действительно существующих противоречий, противоречий в сфере «есть». Ибо само «есть» у него — лишь понятие, лишь мышление. В этом, между прочим, и заключается суть «некритического позитивизма» 3 гегелевской диалектики. Она не допускает никаких действительных вопросов, выходящих за рамки самого мышления и «спрашивающих» о бытии. Единственной функцией мышления оказывается «жевание собственного хвоста», т. е. бытия как понятия же.
Но поскольку это оказывается слишком скучным занятием, мышление вынуждено контрабандой вводить в свою сферу все «снятое» и объявленное «неистинным» «иррациональное» эмпирическое содержание существующей действительности. При этом гегелевское «спекулятивное» мышление фактически занимается лишь тем, что все случайно «встретившееся» и позитивистски (т. е. совершенно некритически) воспринятое эмпирическое существование возводит в абсолютную (т. е. замкнутую) систему «необходимого» и «всеобщего» мышления.
Каждый случайно встретившийся и контрабандой протащенный в сферу абсолютной необходимости понятия факт получает тем самым характер необходимости. Указанием его места в абсолютной системе мышления ему самому придается характеристика «абсолютности» и создается видимость его «объяснения», а тем самым- оправдания. Таким образом, гегелевская диалектика оказывается на поверку лишь плоской апологетикой, чем-то вроде лейбницевской теодиции, апологетики этого «лучшего (ибо абсолютно разумного. — Ю. Б.) из миров». Хотя конечно, «не может уже быть и речи о том, что Гегель просто приспосабливался к религии, к государству и т. д., т. к. эта ложь есть ложь его принципа». Иными словами, гегелевская диалектика оказывается лишь видоизмененной докантовской, лейбнице-вольфавской метафизикой.
Сам Гегель хорошо чувствовал слабое звено своей грандиозной системы тождества бытия и мышления. Не случайно он вновь и вновь (во всех своих произведениях) старается «опровергнуть» кантовское положение о том, что бытие не есть понятие и поэтому не может быть предикатом суждения. Опровергнуть Канта Гегелю крайне необходимо, ибо вся «диалектика» «бытия» и «ничто» — абсолютное «начало» «становления» — держится на бытии, взятом как понятие (только в этом случае бытие и можно отождествить с «ничто» — «ничто понятия»). При этом Гегель идет на любые софистические увертки, используя все слабые места кантовской аргументации.
Таким «слабым местом» ому показался кантонский «пример» со 100 талерами, к «опровержению» которого Гегель постоянно обращается. Суть этого примера состоит в том, что взятые лишь в своей логической функции, лишь как понятие «сто действительных (т. е. существующих. — Ю. Б.) талеров не содержит в себе ни на йоту, больше, чем сто возможных (здесь «понятийных». — Ю. Б.) талеров», ибо в логическом ( и только в логическом!) смысле «от прибавления, что эта вещь существует, к ней ничего не присоединяется». И как существующие и как несуществующие в своем логическом содержании сто талеров остаются ста талерами, т. е. «бытие, очевидно, не есть реальный предикат, оно не есть понятие о чем-то- таком, что могло бы присоединиться к понятию вещи». «Если я мыслю вещь, посредством каких угодно предикатов и какого угодно количества их (даже всесторонне определяя ее), то от прибавления, что эта вещь существует, к ней ничего не прибавляется (в ее логическом определении.- Ю. Б.)». И, однако, совершенно ясно, что для меня не как «понятия», а как реально я в реальном мире существующего, существующие сто талеров не что иное, чем мое «понятие» об этих деньгах.
Все гегелевские опровержения этого узлового кантовского положения сводятся к тому, что Гегель объявляет вышерассмотренный пример «рассудочным», «плоским», ибо он взят из области пошлого «наличного бытия», а не из сферы «чистой мысли», «в себе н для себя сущего понятия», идеи. «Лишь наличное бытие содержит в себе реальное различие между бытием и ничто… Это реальное различие предносится представлению вместо абстрактного бытия и чистого ничто и лишь мнимого различия между ними… Сто талеров суть не некоторое соотносящееся с собой, а некоторое изменчивое, преходящее. Мышление или представление, которому предносится лишь некое определенное бытие — наличное бытие, — следует отослать к вышеупомянутому первому шагу науки, сделанному Парменидом. который очистил свое представление и, следовательно, который очистил свое представление последующих времен, возвысил его до чистой мысли, до бытия как такового».
Гегелю нет дела, во-первых, до того, что Кант построил свою «Критику» отнюдь не на одном «пошлом» примере ста талеров.
Вся его «Критика» посвящена детальнейшему обоснованию того, что столь любимая Гегелем «идея» есть основная сфера метафизического иллюзионизма, ибо за ней не стоит никакое представление, и что «попытка выцарапать из совершенно произвольно построенной идеи существование самого соответствующего ей предмета была совершенно неестественным предприятием и явилась лишь нововведением схоластического остроумия».
Во-вторых, нет ему дела и до того исторического факта, что парменидовское Единое, Бытие было отнюдь не «чистым», и не «мыслью» в новоевропейском «абстрактном» о ней представлении. Это отнюдь не было «абстрактным бытием», равным «чистому ничто».
2. Продуктивное воображение как деятельность опредмечивания. Время и самосознание
Естественно, кантовское доказательство того, что бытие не есть понятие, предмет, а следовательно, не может быть «реальным предикатом», было направлено не против Гегеля (хотя наиболее сильно оно бьет именно его как наиболее последовательного идеалиста). Кантовская «Критика» в этом пункте была направлена против декартовского cogito ergo sum, против первой серьезной попытки вывести бытие из мышления.
Здесь целесообразно рассмотреть одно из интереснейших мест «Критики», где Кант разъясняет парадокс внутреннего чувства (времени) и которое непосредственно смыкается с его учением о продуктивной деятельности воображения.
Парадокс заключается в том, что «внутреннее чувство представляет сознанию даже и нас самих только так, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе». Следует сразу же подчеркнуть, что здесь речь идет о «нас самих» не в смысле нашего тела, но о самосознании, которое делает объектом представления само себя.
Согласно Декарту, самосознание есть самопознание. Сознание того, что я — есть, вообще является первой предпосылкой и «началом» всякого познания. И это верно в конечном счете, но совсем не в том смысле, как это думал Декарт. Более того, взятое в плане cogito ergo sum, т. е. отождествления мышления и бытия, это положение вообще неверно, ибо бытие не есть предмет, понятие, не есть «реальный предикат».
В самом деле, чистое самосознание того, что «я — есмь», т. е. я как лишь голая «экзистенция», есть ничто, в том числе и ничто самосознания. Для того чтобы стать реальным, самосознание должно стать самопознанием, т. е. получить хотя бы какой-нибудь реальный предикат. Я не могу осознать себя в совершенно пустой и бессодержательной форме «я — есмь». Я не просто есмь, но я есмь телесный, с одной стороны, духовный — с другой, сильный — с третьей, лысый, сидящий, пишущий, с красным носом, узловатыми пальцами; я есмь член профсоюза, пьющий, любящий, ненавидящий, ошибающийся и т. д. Иными словами, всякое познание, в том числе и самопознание н в такой же степени самосознание «я» как существующего, есть опредмечивание.
Познать что-либо я могу, лишь «опредметив» его. Например, моему представлению о неком «х» мало помогает «знание», что «х» существует. «Есть» здесь, по сути, равно «не-есть». Для того чтобы стать для меня подлинным «есть», этот «х» должен предстать в виде скажем, человека, непосредственно, или опосредовано вызвавшего во мне тот или иной (более или менее сложный) комплекс представлений, а следовательно, в виде человека «доброго» или «глупого» и т. д. Конечно, таков он — для меня, в моем представлении. «Сам по себе» он может быть и не таков. Но все, что не опредметилось в моем представлении, есть лишь голое существование, х=0. Только так я воспринимаю все, что меня окружает, так же другие люди воспринимают и меня. А главное, точно так же я воспринимаю и самого себя, т. е. самопознание необходимо становится для меня самоопредмечиванием.
Гегель, согласно которому бытие абсолютно тождественно понятию, т. е. самой предметности, метафизически абсолютизировал эту диалектику. Он вообще, как это ни кажется парадоксальным, был склонен к позитивистскому обожествлению «факта». Так, человек для него (как и любая «сущность», равная бытию) — лишь то, в чем он себя фактически «опредметил», все остальное- пустая болтовня, ибо, согласно Гегелю, недопустимо признавать «вещь в себе». Иными словами, «по плодам их узнаете их» . Гегель, конечно, здесь во многом прав. И тем не менее… Если бы он был совершенно прав, мы никогда не ошибались бы ни в людях, ни в вещах, ни в самих себе. А это случается нередко. Более того, мы слишком часто оказываемся «вещью в себе» даже для самих себя; оказывается подчас, что мы и представления не имели о том, на что мы способны.
Но как это может быть, как это я могу сам себя опредмечивать?
Изначальной, содержательной основой всякой предметности является чувственность. Согласно Канту, «Я» имеет две априорные формы чувственности внешнее чувство — пространство и внутреннее чувство (т. е. чувство самого себя) — время. Казалось бы, обе эти формы равнозначны и рядоположны. Однако на деле оказывается, что первая форма так или иначе основывается и даже в конечном счете сводится ко второй. Ведь поскольку чувство самого себя, ,т. е. наличие самого субъекта, есть необходимая предпосылка и условие всякого субъект-объектного отношения, т. е. всякого познания вообще, «чистый образ всех предметов чувств вообще есть время». Иными словами, человек, согласно Канту, лишь настолько способен к самопознанию и к познанию вообще, насколько он «знает» время.
Здесь у Канта, несомненно, — элемент гениальной «догадки». Во всяком случае, уже давно стал общеизвестным- тот факт, что греки, например, не обладали развитым «чувством времени», в частности, у них не было никакого «вкуса» к точной хронологии, да и к истории вообще, что выразилось и в эпическом, статуарно-пластическом стиле их искусства. На этой, еще крайне низкой ступени развития производительных сил, человек еще не обладал и развитым «самосознанием», он вообще мало отличал себя от природы, от того природно-общественного целого (полиса-космоса), в котором он жил и с которым был непосредственно слит. Интерес к истории (времени вообще) впервые начинает проявляться лишь в период разложения классического полиса-космоса, разложения, явившегося результатом рождения на основе развития прозводительных сил «самодеятельного», «самосознательного» индивида-личности, противопоставившей свой частный «разумный» интерес патриархально-природному иррационально целостному » полису.
— Таким образом, интерес ко времени впервые проявляется лишь в эпоху эллинизма, а по-настоящему лишь в эпоху христианского средневековья, в мифологическом сознании которого человек впервые резко противопоставляется всему природному вообще. Не случайно, что один из первых отцов церкви — Августин в своей «Исповеди» много внимания уделяет «проблеме времени». Но наиболее характерно изощренное чувство времени для современной эпохи ускоренного прогресса. Часы, на каждом перекрестке отбивающие все ускоряющийся ритм этого прогресса, стали своеобразным символом. Особенно глубоко развито чувство времени у жителя большого города, обладающего предельным самосознанием своего «я». Оно подчас доходит до истерии. Человек научился постоянно рассчитывать не только недели, дни, но минуты, секунды. Он всегда бежит, и притом не только тогда, когда он это делает физически. Он разучился отдыхать, всегда внутренне находясь в погоне за будущим, его мучает бессоница. Поистине неразрешимым стал фаустовский «великий вопрос» — возможно ли прийти когда-либо к тому, чтобы сказать «Остановись, мгновение!». Для урбанистического сознания забвение заботы, остановка «бега», слияние с настоящим становятся возможными разве лишь неком экстатическом состоянии.
Вернемся, однако, к кантовскому парадоксу «Каким образом я, который мыслю, отличаюсь от я, которое само себя наглядно представляет… и тем не менее совпадаю с ним, как один и тот же субъект? Каким образом, следовательно, я могу сказать, что я как интеллект и мыслящий субъект, познаю самого себя. как мыслимый объект, поскольку я дан себе также в наглядном представлении, т. е. познаю себя только одинаковым образом с другими явлениями, не так, как я существую независимо от рассудка, а так, как я себе являюсь».
С точки зрения рядоположности, самостоятельности двух форм чувственности, относительно «понятно», как мы познаем внешний мир. Эмпирическое существование аффицирует внешнее чувство, создавая текучее многообразие пространства, которое благодаря деятельности воображения приобретает «твердые» предметные (понятийные) формы необходимости и всеобщности.
Но как мы познаем самих себя? (А без этого познания, без самосознания невозможно и познание внешнего мира, невозможно вообще пред-ставление чего-либо как противостоящего мне. Только в этом смысле время и есть «чистый образ всех предметов чувств вообще»). Что аффицирует наше внутреннее чувство, т. е. чувство самосознания, чувство, воспринимающее меня самого, чувство, которое в сущности и есть я сам?
Постараемся разобраться в этом вопросе с точки зрения кантовских исходных (метафизических!) посылок. Что такое самосознание? Это трансцендентальная апперцепция, т. е. «я» как лишь «чистое» понятие, взятое вне синтеза с многообразием чувственности, — это чистая форма всеобщности и необходимости сама по себе; это то, что остается единым (пребывающим) в любом многообразии внутреннего чувства, т. е. то, что должно было бы остаться при «абстрагировании» от всего конкретного» и случайного многообразия проявлений «я». Иными словами это и есть cogito ergo sum, т. е. чистое «я» (мышление) — есть (сущеструю). «Все это то же самое, что индус называет брамой, когда он, оставаясь внешне в состоянии неподвижности, а также в состоянии неподвижности чувствования, представления, фантазии, желаний и т. д., годами смотрит лишь на кончик своего носа и лишь говорит внутренне, самому себе «ом, ом, ом», или даже ничего не говорит, это заглушенное, пустое сознание, понимаемое как сознание, есть бытие».
Но, повторяем, если единственным предикатом «я» (чистого мышления) становится чистое бытие («есть»), то само «я» (самосознание) равно нулю. Это «я» совершенно беспредметное, совершенно пустое, несуществующее. Повторяем, чтобы реализоваться, самосознание должно опредметиться (стать «я» сидящим, читающим книгу и т. д.), но предметность — это уже не просто голая понятийность (апперцепция), но — синтез с многообразием чувства.
Здесь налицо колоссальный важности для всей кантовской «Критики» вывод. Самосознание не может быть чистой, т. е. трансцендентальной апперцепцией! Как таковое оно — нуль. Следовательно, центр тяжести переносится на конкретное многообразие внутреннего чувства.
Но что такое это внутреннее чувство? Ведь чувство вообще — это пассивная воспринимающая способность, способность аффицироваться. Что же она воспринимает, чем она аффицируется?
Повторяем, относительно понятно, если речь идет о внешнем чувстве, воспринимающем вне и независимо от нас существующую вещь в себе (в том числе и наше тело со всеми его «внутренними» состояниями). «Относительно» — ибо само это внешнее чувство опосредовано самосознанием; без самосознания, без «я» не может быть воспринято ничего и «вне» меня (в том числе и мое тело как «объект»), т. е. невозможно и само «внешнее чувство». Так, что же воспринимает внутреннее чувство (время), чувство самого себя; чувство «я», пребывающего во времени, т. е. «знающего» время, знающего не только настоящее, но прошедшее, а главное, будущее?
Что в самосознании есть вообще, кроме чувства времени? Есть трансцендентальная апперцепция, говорит Кант. Но ведь вне синтеза с многообразием чувства времени сама эта трансцендентальная апперцепция (я мыслю) есть чистый нуль, пустой фантом метафизической абстракции. Как же этот фантом может воздействовать на внутреннее чувство, аффицировать его? Где здесь выход?
Выход очевидно один — внутреннее чувство само себя аффинирует! Но это абсурд. Этого Кант принять не может, ибо согласно его собственному (метафизическому!) определению, чувственность — это «способность (восприимчивость) получать представления вследствие того способа, каким предметы (читай — «вещи в себе».- Ю. Б.} действуют на нас» . Чувственность не может быть самоаффицированием, самодеятельностью, ибо в таком случае она перестает быть чувственностью, страдательной, воспринимающей способностью. И тем не менее Кант констатирует «Мы представляем себя самих наглядно лишь .постольку, поскольку мы внутренне подвергаемся воздействию; это кажется противоречивым, так как по-видимому, мы должны были бы при этом относиться страдательно к самим себе». Это «кажется» противоречивым, но ведь это факт! Ведь «сущность» самосознания в том и состоит, что «я» воспринимаю свое же собственное «я». «Я» как объект аффицирую это же «я» как субъект! «Я» как субъект делаю свое это же «я» объектом, т. е. предметом своего же собственного рассмотрения. При этом сам же Кант неопровержимо доказал, что вне чувственности мне нечего было бы «рассматривать», кроме голого нуля, «дырки от бублика». I/ Таким образом, лопается первый метафизический фетиш кантовской «Критики» — чувственность как чисто » пассивная, воспринимающая способность. Она оказывается… самоаффектацией, самодеятельностью!
Но для Канта признать это — значит разрушить собственную систему, основанную на метафизически обособленных и вследствие этого изначально противопоставленных друг другу «элементах» познания — чувственности, рассудка и воображения. Как же «выкручивается» Кант из этого положения?
Читаем «Мы должны также признать и относительно внутреннего чувства, что посредством него мы наглядно представляем себя самих лишь постольку, поскольку мы изнутри, воздействуем на самих себя».
Но кто же это «мы», которое аффицирует наше внутреннее чувство, т. е. «нас самих»?
«Рассудок, под именем трансцендентального синтеза способности воображения, производит на пассивный субъект, способностью которого он является, такое воздействие, которое по справедливости может быть названо аффицированием внутреннего чувства».
Как видим, даже и здесь Кант упорно цепляется за старые, им же самим «в прах» развеянные предрассудки рационалистической метафизики Просвещения. Он специально подчеркивает слово пассивный. И что же, согласно ему, воздействует на этот «пассивный субъект» (!) на (все-таки!) пассивное внутреннее чувство?! Оказывается — это… рассудок! Но уж кому, как не Канту, знать, что рассудок сам по себе равен нулю. Как же он может воздействовать? Очевидно, не сам по себе, но «под именем» способности воображения! Так что же в конце концов «воздействует»? Рассудок или способность воображения? Или это одно и то же? Может быть «рассудок» — это лишь псевдоним, а настоящая, «девичья», так сказать, фамилия его — «способность воображения»? И не «способность» даже. Ибо какая же это «способность», если это деятельность, более .того — продуктивная самодеятельность, т. е. самоаффектация! Вот что пишет сам Кант «Поскольку способность воображения есть ! самодеятельность, я называю ее иногда также продуктивной способностью воображения и отличаю ее таким образом от репродуктивного воображения, синтез которого подчинен исключительно эмпирическим законам, именно Законам «ассоциации».
Таким образом, лопается второй метафизический фетиш Канта — априорные, неподвижно окостеневшие, «чистые» формы необходимости и всеобщности, априорные формы рассудка, назначение которых — «ждать», когда некая таинственная сила приведет их в гармонию с многообразием пассивной и тоже априорной чувственности; приведет в гармонию «я», которое лишь мыслит, а постольку равно нулю — с чувственным «я», которое лишь мыслимо, а постольку не сознает себя. Более того, здесь лопаются и становятся ненужной роскошью оба метафизических фетиша и априорная чувственность, и априорный рассудок. Оба они на поверку оказываются лишь окостеневшими абстракциями, формами единой изначальной деятельности, самодеятельной, самоаффицирующейся деятельности опредмечивания вообще, в том числе и самоопредмечивания, ,т. е. самосознания в собственном, действительном смысле этого слова.
Воображение у Канта оказывается таким образом воспроизводством в формах своей самоаффицьрующейся, т. е. произвольной (и лишь постольку субъективной) деятельности всякой «вещи в себе», в том числе и такой «вещи в себе», как «мы сами».
И лишь в результате этого, т. е. в результате самоаффектации, произвольности опредмечивающейся деятельности воображения, «внутреннее чувство представляет сознанию даже и нас самих только так, как мы себе являемся, а не так как мы существуем сами по себе». Более того, само «внутреннее чувство» оказывается возможным лишь в результате самодеятельности воображения «Само понятие последовательности (т. е. «знание» времени. — Ю. Б.) впервые имеет своим источником движение как акт субъекта». Таким образом, время как таковое оказывается не априорной формой (и всего лишь!), не «вещью самой по себе», которая может быть представлена лишь в формах нашей деятельности «Время, которое вовсе не есть предмет внешнего наглядного представления, может быть представлено нами не иначе, как по . образом линии, поскольку мы ее проводим». Именно деятельность (а не застывшие априорные формы) лежат в основе всякой предметности «Это мы и наблюдаем всегда в себе. Мы не можем мыслить линии. не проводя (т. е. не производя! — Ю. Б.) ее мысленно не можем мыслить окружности, не описывая ее, не может представить трех измерений пространства, не восста новляя из одной точки трех перпендикуляров друг к другу, и даже время мы можем представить не иначе, как обращая внимание при проведении прямой линии (которая должна быть внешне фигурным представлением времени) исключительно на акт синтеза многообразия, посредством которого мы последовательно определяем внутреннее чувство, и таким образом, имея в виду последовательность этого определения»*. Здесь следует обратить особое внимание на то, что подчеркивает сам Кант, а также на то, что «мы последовательно определяем внутреннее чувство», ,т. е. свое же собственное «я». Чем мы его определяем («аффицируем»)? Своей же собственной деятельностью!
В каждый данный момент оно существует для нас только в соотношении с определенной целенаправленности в будущее, т. е. прошлое всегда существует только в форме будущего. Самосознание, «я», оказывается, таким образом, соотношением прошлого и будущего в едином субъекте деятельности; оно, т. е. само «внутреннее чувство», чувство времени, раскрывается как субъективный слепок целесообразной деятельности, труда.
Но труд, в силу изначально практически-общественной природы своей, не есть нечто субъективное. В труде человек трансформирует предмет уже не просто в воображении, но при помощи воображения на самом деле и притом согласно «его собственной мере» (Маркс). Труд, взятый в его единственно истинной всеобщей общественной форме, уже не односторонняя, субъективная деятельность, но деятельность универсальная. Именно поэтому и чувство времени — не субъективная априорная форма, но лишь в субъективной форме преобразованная — осознанная — всеобщая определенность бытия. Чувство времени, «я» (т. е. труд, преобразованный в качестве сознания) — тот пункт, в котором универсальность природы и человека совпадают. Целенаправленно созидающий по меркам любого вида, а тем самым самосознающий, т. е. «временствующий» человек является тем полюсом, в котором, выражаясь словами Гегеля, природа приходит к самопознанию.
Человек — «проявитель» природы..Человеческая цель выступает как идеально преобразованное выражение направления, хода движения природы, хода объективного времени. Отличие объективного времени от времени человеческого, т. е. от времени как «априорной фермы чувственности» в том, что последнее выступает в форме сознательной цели, свободно продуцированной воображением.
Только узнав время, человек узнал самого себя и весь мир. Но осуществить это, как мы постараемся показать дальше, он мог только через целесообразную практическую деятельность. Поэтому человек осознает себя как целеполагающее, т. е. свободное существо, а весь мир — как целесообразно устроенный мир.
С точки зрения такой постановки вопроса рассматриваемая здесь проблема времени и самосознания преобразуется в задачу — вывести все кантовские априорные формы, в том числе и априорную форму времени, т. е. внутреннего чувства «я», из материальной целесообразной деятельности общества, из труда.
Таким образом, приоткрывается завеса с той «загадки сфинкса» о неизвестном нам общем корне — квадратном круге, которую загадал Кант и конкретные пути решения которой он сам наметил. Наметил, но не дошел по ним и половины пути. Поэтому и затерялись его пути в дебрях идеалистической диалектики Фихте — Гегеля, выбросивших за ненадобностью продуктивную деятельность воображения, а вместе с ней и ее порождение — «вещь в себе». Кант не довел до конца своих путей. А шли они к пониманию материальной целесообразной продуктивной деятельности опредмечивания — труда как основы всех «априорных» способностей человека, в том числе и самого человеческого «я».
3. Способность суждения. Предметность как «мозаика»
Итак, согласно Канту, лишь создав идеальный предмет, человек впервые получает возможность познания реального, т. е. впервые получает возможность реализовать (сделать предметным) самое «таинственное» слово языка — «есть». Идеальный предмет становится мерой, принципом оценки, масштабом. Неважно, что. например, сантиметра, идеальных математических линий, окружностей, точек, или, скажем, идеального <-стола вообще» не существует на «самом деле», вне нашей деятельности и сознания. Важно, что есть мера, критерий, принцип оценки, получив которые, человек впервые только и может открыть «реальное», открыть само различие между реальным и идеальным. Предметность и есть эта мера. Сущность — это меновая стоимость существования.
Что значит, что предмет становится принципом оценки? Это значит, что наше эмпирическое познание («опыт») заключается в определяющей способности суждения, которая «оценивает» чувственную данность с точки зрения — насколько последняя «годится» быть наглядным выражением идеального предмета. На этой — определяющей — ступени познание сводится к «узнаванию» в тех или иных чувственных комплексах «предметов».
При этом следует разобраться в важном вопросе — что «шире» и что «уже»? Всеобщее понятие-предмет «шире» своего единичного эмпирического представителя в том смысле, что под него можно «подвести», точнее, его можно представить в образе бесконечного множества явлений, хотя ни одна чувственная эмпирическая данность не выражает этот предмет абсолютно адекватно. В опыте мы не встретим ни идеальной прямой, ни идеального шара, ни идеального дома вообще, ни Человека и т. д.
Но, с другой стороны, эмпирическая единичная данность тоже «шире» идеального предмета, ибо эту «данность» можно рассматривать с точки зрения бесконечного числа целевых .назначений (определений), принципов оценки, ,т. е. ее можно представлять, а главное «употреблять»! в качестве самых различных предметов. Раковину, например, можно рассматривать как вид известняка, сложную геометрическую фигуру, ценное украшение, «дом» моллюска и т. д.
Итак, определяющая способность суждения сводится к «узнаванию», т. е. к определению назначения, а поскольку этот акт совершился, вступают в действие априорно необходимые, логические схемы предметной связи, в результате чего эмпирическое существование включается в систему опыта.
Говоря о «способности суждения», здесь следует подчеркнуть, что на этой стадии познание не есть еще познание в собственном «большом» смысле этого слова. Иными словами, на стадии способности суждения познание не может стать открытием. Последнее есть продукт продуктивной (а не репродуктивной) деятельности воображения; оно есть творчество нового всеобщего предмета (например, новые аксиомы геометрии Лобачевского). Способность суждения, в конечном счете, сводится, повторяем, лишь к «узнаванию», к выявлению все новых и новых «представителей» уже готового и давно ставшего общезначимым предмета; иными словами, она сводится к отысканию все новых и новых «примеров». «Единственная и при том огромная польза примеров именно в том и состоит, что они обостряют способность суждения».
Развитие способности суждения у того или иного человека является, в частности, одной из главных причин возрастающей многозначности (образности) слов его языка. Например, «железо» употребляется уже не только как обозначение определенного металла, но «усматривается» и в черством хлебе, сильном характере и ч даже в убедительном рассуждении («железная логика»). Современные неопозитивисты очень недовольны (этой «иррациональной» языковой многозначностью, которая, по их мнению, является главным источником всякого рода ошибок, заблуждений, теоретических и практических трудностей. Они ставят задачу создания однозначного, точного, предельно рационализированного языка, могущего быть легко «закодированным» в математических символах. И это действительно очень важная техническая задача. Но именно техническая, не более. Ибо однозначным «эсперанто» может удовлетвориться лишь кретин да кибернетическая система. Уже отсюда ясно, что «способность суждения отнюдь не самая тривиальная и «легкая» способность. Повторяем, даже здесь огромную роль играет деятельность воображения — воображения репродуктивного. Ведь способность «суждения» (определения,, целевого назначения чувственной данности), т. е. определения места каждой «встреченной» данности в целостной логической системе опыта, есть способность практически применять все наши знания, все наше идеальное, многовековым развитием человечества накопленное, но мертвое без живого репродуктивного воображения богатство. И неудивительно, что недостаток способности суждения Кант называет .»глупостью» «Недостаток способности суждения есть собственно то, что называют глупостью; против этого недостатка нет лекарства. Тупой или ограниченный ум, которому недостает достаточной силы рассудка и собственных понятий, может однако с помощью обучения достигнуть даже учености. Но так как вместе с этим подобным людям недостает способности суждения, то не редкость встретить очень ученых мужей, которые, применяя свою науку, на каждом шагу обнаруживают этот непоправимый недостаток». Продолжая мысль Канта, можно добавить, что и сегодня. «не редкость» встретить » очень ученых мужей», отлично запомнивших те или иные научные категории и их логические взаимосвязи. Простейший способ поставить «в тупик» такого мужа — это выдвинуть перед ним те же самые «научно» опредмеченные, «возвышенные» вопросы в форме «тривиальной» практической прозы.
Итак, предметность, несущая в себе «первородный грех» произвола, не может быть адекватной существующему, вещи самой по себе. Следствием этого и является то, что все логические построения эмпирических наук относительны и ценны лишь постольку, поскольку они «работают». Теплород, например, заменяется движением молекул, геометрически-статуарный, пластический атом Демокрита вытесняется электронно-силовым атомом современной физики, корпускулярную теорию света сменяет волновая, а затем квантовая теория и т. д. Все это естественный ход развития науки — деятельность беспрерывного уточнения первоначальных «схем». Ведь в процессе познания каждый день обнаруживается, что существующее не охватывается наличной предметностью. Поэтому создаются все новые и новые предметы. А поскольку процесс их творчества далеко не всегда мгновенный акт гениального «озарения» индивида, новые предметы получают жизнь в старой словесной оболочке, постепенно, вытесняя старый предмет, стирая следы первоначального, древнего значения того или иного слова. За примерами здесь недалеко ходить. Достаточно произвести историко-филологический анализ значения любого слова нашего современного языка.
Повторяем, это естественный ход развития познания. В самом деле, как познать данную «вещь», существующую «саму по себе», т. е. вне и независимо от нас, от нашей деятельности вообще, в том числе и от нашего познания? Подведение ее под тот или иной предмет-понятие, т. е. вовлечение ее в ту или иную форму нашей целесообразной деятельности, оставляет в темноте бесконечное множество других, несущественны с точки зрения данного определения (целевого назначения) сторон этой самой по себе существующей вещи. Чтобы вызвать, их из темноты, нужно последовательно подводить эту «вещь» под другие понятия, делать ее (по принципу «а также»} все новым и новым предметом. В этом «а также.» суть дискурсивности, прерывности, «рассудочной ограниченности» рационального познания. Здесь же заключены и истоки «тайны» знаменитых «апорий» Зенона, над которыми «ломали головы» все выдающиеся философы древности и современности. Но недаром Кант столь упорно доказывал несостоятельность и принципиальный иллюзионизм всякой метафизики. Апории Зенона «неразрешимы» в плане метафизической абсолютной истинный ибо все, в том числе и непрерывное «само по себе» движение, мы можем познать лишь в предметных формах нашей деятельности, а всякий предмет по существу своему есть дискретная единица «измерения» (а значит, и изменения) непрерывности «вещей самих по себе». Иными словами, всякую «интенсивную» величину мы можем представить лишь в форме «экстенсивной», и именно поэтому в балансе у нас всегда оказываются иррациональные величины. Мы не можем представить движение иначе, чем в образе «тела», которое в предыдущее мгновение «находилось» в точке «А», а в последующее «оказалось» в точке «В». Это предметное представление неустранимо, как бы мы ни дробили «мгновения» и «расстояния» между точками. Следует ли отсюда вывод, что движения не существует? Такой вывод мог возникнуть только в голове философа, живущего в эпоху ранней древнегреческой классики, когда человек, повторяем, еще мало различал идеальное и реальное, идеальный предмет-понятие и «вещь саму по себе». Современному же сознанию должно быть ясно, что движение было, есть и будет существовать » само по себе», вне и независимо от дискретных, дискурсивных .предметных форм нашего познания. Более того, оно впервые может стать познанным, а стало быть сознательно использованным и реально, на практике преобразованным (ведь заставляет же человек одни виды движения «превращаться» в другие) лишь тогда, когда оно «схвачено» и «втиснуто» в рациональные предметные формулы.
Итак, изначальный произвол синтеза продуктивного воображения обусловливает то, что мы никогда не узнаем, например, какое именно зерно делает кучу. Не узнаем лишь потому, что «куча» не есть нечто «само по себе» существующее но лишь идеальный предмет, логическим содержанием (а следовательно, и практическим назначением) которого как раз и является относительная количественная неопределенность содержащегося в ней зерна. Именно эта, так сказать «нарочитая», неопределенность дает возможность, не прибегая к утомительному счету, представлять в образе (по «схеме») «кучи» и 38 и 1380 и… 138567589 зерен. Если же нас не удовлетворит такого рода представление, мы (опять-таки произвольно!) можем создать новый идеальный предмет, содержанием которого («нарочитым», конечно) будет математически точная величина.
Итак, мы никогда не узнаем, например, какое именно зерно делает кучу, ибо в данном случае такой предмет, как «зерно» является «границей» такого «наличного бытия», как «куча». Мы никогда не узнаем… Но стоит ли из-за этого впадать в иррационалистическую крайность. Разве это дает основания отвергать дискурсивный, «плоско-рассудочный», «изначально зараженный man » Разум? Нет. То, что в результате развития самого Разума и в его же пределах оказалось возможным поставить вопросы, неразрешимые дискурсивными, понятийно-предметными средствами -все это не дает никаких оснований для экзистенциалистских призывов возвратиться к откровенной мистике, встать «перед лицом смерти» и т. д. и т. д.
Да, мы, очевидно, никогда не сможем абсолютно адекватно познать «вещь саму по себе», т. е. бытие. Не сможем, ибо между последним и предметным понятийным познанием всегда будет оставаться то различие, какое существует, например, между играющим непосредственными переливами всех красок шедевром искусства, скажем, картиной Рафаэля, мозаичной копией ее. Как бы тонко мы ни дробили субъективно-произвольный «сам по себе», понятийно-предметный материал нашей картины мира, она все равно останется мозаикой, более или менее утонченной. Это важно усвоить, чтобы не сбиться в дуализм типа Фихте-Гегеля, которые постулировали абсолютное тождество бытия и мышления, т.е. «вообразили», что не только наша картина мира, но и мир «сам по себе» есть не что иное, как… понятийно-предметная мозаика, т. е. система категорий. Более того, с их точки зрения, сам мир становится более утонченной мозаикой лишь в той мере, в какой все утонченное становится наше познание его. В этом утончении, усложнении категориальной системы, по их мнению, и заключается суть объективного (объективного здесь в смысле «вещи самой по себе») развития. И только в этом смысле мировое развитие здесь может «совпадать» с историческим развитием человечества, с процессом самопознания надиндивидуального или «абсолютного» духа.
Наше познание-лишь мозаика. Но, чтобы не сбиваться в иррационализм, следует помнить, что и мозаичная картина (даже самая грубая, первобытно-мифологическая) есть картина мира «самого по себе-«, ибо возникает она отнюдь не как пассивное созерцание и не как «искусство для искусства», но как орудие жизненно-необходимой, сознательно-практической ориентации реально существующего человека в реально существующем и отнюдь не мозаичном самом по себе мире. Произвольно продуцированный идеальный предмет («кирпич» мозаики) имеет первоначальное назначение быть орудием практического, целенаправленного, трудового преобразования вещи самой по себе. Он, если угодно, и есть сама идеально опредметившаяся и лишь постольку могущая быть реально, человечески-сознательно опредмеченная цель.
Рациональное познание-лишь мозаика. Но эта мозаика есть картина мира самого по себе, ибо сама эта ; картина (т. е. то, что можно «созерцать») возникает как необходимый побочный продукт практической деятельности, направленной на преобразование «вещи самой по себе». Произвольно продуцированный воображением идеальный предмет имеет изначально практическое, а отнюдь не созерцательное назначение. Он практически (а не созерцательно) соотнесен с «вещью в себе», поэтому он имплицитно, внутри себя содержит единственный критерии своей инстинности — практическую применимость.
Таким образом, оказывается, что в конечной счете объективно не произвол продуктивного воображения, а материальная «вещь сама по себе» определяет и корректирует нашу картину мира, определяет, в частности, структуру расположения «кирпичей» мозаики. Произволу продуктивного воображения, если оно хочет, чтобы его продукт был практически значимой — осуществимой — целью, а не просто пустой метафизической фантазией,- произволу воображения волей-неволей приходится приспосабливаться к «произволу» вещей самих по себе. Именно «произвол» вещей самих по себе-бытия-заставляет нас постоянно обновлять свои «орудия», постоянно «дробить» и утончать свои понятия — предметы. Это процесс бесконечный. Ибо как бы мы ни дробили первоначальные «кирпичи» («гештальты», «схемы»), мозаика в конечном счете останется лишь мозаикой. Как бы бесконечно долго мы ни дробили стороны многоугольника — мы не получим окружности. В балансе у нас навсегда останется иррациональное число, недосягаемым пределом которого будет окружность. Вычислить ее «длину» мы можем лишь с той или иной степенью приближения. Но усматривать в том «бессилие» разума и ополчаться против науки (а именно этим по вполне понятным причинам и занимается современная иррационалистическая буржуазная философия) — значит уподобляться голодному человеку, который не может утолить свой голод только потому, что ему предлагают не идеальную «пищу вообще», но вполне реальный хлеб, масло, мед и даже жареных рябчяков.
Мы можем вычислить длину окружности лишь с той или иной степенью приближения. Но единственно реальным, а не «метафизическим», вопросом здесь может быть с какой именно степенью?
Именно на этот вопрос и отвечает все развитие человеческого познания. И ответ этот оказывается весьма оптимистичным. Оказывается, что мы можем вычислить длину окружности с любой необходимой нам сегодня на практике (а не в теории!) степенью точности! Мы можем довести нашу «мозаичную» картину мира до любой степени утончения. Более того. Чем более утонченной становится наша мозаика, чем больше она готова «слиться» с непрерывностью вещи самой по себе, тем более мы осознаем изначальную «мозаичность», произвольность, если угодно, -нашей картины мира.
Первобытного человека вполне удовлетворяло представление луны как живого существа с человеческим ртом и глазами. Современного астрофизика «совершенно» не удовлетворяют все новейшие, сложнейшие теории; он видит в них лишь одни вопросы. Правда, на свете живут не одни астрофизики. Еще и сегодня встречаются люди, фанатично убежденные в том, что сегодняшняя картина мира, в противоположность всем прошлым-«неистинным»,-единственно и окончательно истинная, «естественная», «непридуманная», абсолютно адекватно отражающая «вещь саму по себе». Высмеивая подобных людей, Маркс писал «Для них существует лишь два вида учреждений — искусственные и естественные. Учреждения феодализма суть учреждения искусственные, учреждения буржуазии-естественные. Они походят в этом отношении на теологов, которые тоже устанавливают два вида религий. Всякая религия, кроме той, которую исповедуют они сами, есть изобретение человеческое, тогда как их собственная религия есть божественное откровение. Итак, была некогда история, но теперь ее больше нет».
Однако вернемся к Канту. Итак, оказывается, что в результате произвола продуктивной деятельности воображения мы не просто творим «фантазии», но с помощью этих фантазий, направленных на практическое, прежде всего, освоение действительности, — мы и теоретически познаем «вещь саму по себе». Таким образом, оказывается, что «отличие понятия вещи в себе от понятия явления не объективно, а чисто субъективно. Вещь в себе есть не другой объект, а другое отношение представления к тому же самому объекту».
Как мы видим, «агностицизм» Канта заключается здесь лишь в том, что он призывает никогда не успокаиваться в деле познания на достигнутых результатах, призывает не уподобляться всякого рода теологам, для которых «была некогда история, но теперь ее «больше нет». Сам Кант — лучший пример именно такого, «вперед смотрящего» отношения к науке. Вот что, например, пишет о его роли в науке Ф. Энгельс «Первая брешь в этом окаменелом воззрении на природу была пробита не естествоиспытателем, а философом. В 1755 г. появилась «Всеобщая естественная история и теория неба» Канта. Вопрос о первом толчке был устранен; земли и вся солнечная система предстали как нечто ставшее во времени. Если бы подавляющее большинство естествоиспытателей не ощущало того отвращения к мышлению, которое Ньютон выразил предостережением физика, берегись метафизики!, то они должны были бы уже из одного этого гениального открытия Канта извлечь такие выводы, которые избавили бы их от бесконечных блужданий по окольным путям и сберегли бы колоссальное количество потраченного в ложном направлении времени и труда. Ведь в открытии Канта заключалась отправная точка всего дальнейшего движения вперед» и т. д.
Достойная сожаления не только судьба естественнонаучных открытий Канта, совершенно не понятых его современниками. Не менее печальна и судьба кантовского собственно философского наследства. Послекантовский идеализм (включая и «неокантианство» конца XIX- начала XX в.) предпринял ожесточенный поход против материализма, против «вещи в себе», обвинив . Канта в «непоследовательном рационализме».
Сейчас пластинка переменилась. Буржуазии не нужен больше Разум. Поэтому современная буржуазная философия обвиняет Канта в том, что он был «непоследовательный иррационалист».
Здесь следует подчеркнуть, что как первое, так и второе обвинения — чистейшая фальсификация. Кант действительно был глубоко непоследователен, но не как рационалист, а как «идеалист». Он никогда не допускал тождества мышления и бытия. Тем более нелепы попытки » подтянуть» его под современный иррационализм. Кант как просветитель (хотя уже и далеко перешагнувший за узкие рамки метафизического просветительства) верил» во всепобеждающую мощь творческого человеческого Разума и боролся против всяческих религиозно-феодальных преград на его пути. Имея в виду представителей подлинно творческой науки и обращаясь к фанатичным служителям монархического государства и церкви, он писал «Предоставьте этим людям, делать свое дело; если они обнаружат талант, если они произведут глубокие и новые исследования, одним словом, если только они проявят разум, то во всяком случае разум от этого выиграет. Если же вы кричите о государственной измене, если вы созываете, как бы для тушения пожара, людей, ничего не понимающих в таких утонченных вопросах, то вы ставите себя в смешное положение… В самом деле было бы нелепо ожидать от разума разъяснений и в то же время наперед предписывать ему, на какую сторону он непременно должен стать. К тому же разум уже самостоятельно до такой степени укрощается и удерживается в границах самим же разумом, что вам нет нужды призывать стражу, чтобы противопоставить общественную силу той партии, перевес которой кажется вам опасным».
4. Кантовская теория образования понятий а неокантианство. Переход к неоплатонизму
Итак, пришло время поставить наиболее радикальный вопрос кантовской «Критики». Каков тот «материал», из которого лепятся «кирпичи» мозаичной картины мира? Какова природа и внутренняя структура продуцированных самодеятельностью воображения предметных понятий?
На первый взгляд кажется, что здесь перед нами поставлена старая логическая проблема образования абстрактных понятий. Но это-лишь на первый взгляд.
В том-то и состоит оригинальность кантонской постановки вопроса, что» эта проблема оказывается вовсе не логической.
Ведь в данном случае речь идет не об абстрактном родовом понятии формальной логики. Как мы видели при анализе трансцендентальной апперцепции (чистого самосознания, вневременного и внепространственного понятия «я»), абстрактное родовое понятие-альфа и омега всякой логики-оказалась чистым фантомом, чем-то вроде «индусской брамы», абсолютно бессодержательной метафизической иллюзией, за которой скрывается продуктивная синтезирующая деятельность воображения.
Повторяем, в данном случае речь идет не об абстрактном рассудочном понятии формальной логики, но о предмете, ,т. е. о продукте изначального синтетического единства чувственности и рассудка. Проблема образования предмета не может быть логической, формальной проблемой, ибо предмет в самом себе уже содержит не только рассудочную форму, но чувственное содержание. Как таковой он, конечно, понятие, но это уже не абстрактное, родовое, но в самом себе содержательное, чувственное, синтетическое понятие. Как таковой, предмет не может иметь чисто логическое происхождение, ибо посредством имплицитно наличного в нем чувственного содержания он изначально (внутри самого себя) соотнесен с чем-то вне и независимо от нас существующим. Иными словами, проблема образования и природы предмета не может быть проблемой логической постольку, поскольку чувственность, согласно Канту, не есть сфера логики.
Во всем этом следует разобраться подробнее. Ведь, например, Гегель тоже трактует понятие отнюдь не только формально-логически. Недаром он и острит в своей «Логике» по поводу «брамы». Понятие для него тоже есть в самом себе содержательный предмет. И вместе с тем Гегель отнюдь не склонен исключать свое «содержательное» понятие из сферы логики. Более того, понятие для него — это высшая логическая категория, «снявшая», а тем самым «вобравшая» в себя все богатство «бытия» и «сущности». В чем же дело? Почему Кант упорно не желает рассматривать свое содержательное понятие в сфере логики? Может быть это просто плод недомыслия?
Повторяем, для Канта все дело здесь упирается в чувственность, которая хотя и «не содержит в себе ничего, что могло бы принадлежать предметам самим по себе» (т. е. «вещам в себе».- Ю. Б.), но «выражает только явление чего-то и способ действия этого чего-то на нее» , т. е. она непосредственно связана с «.чем-то» вне и независимо от всякой нашей логики существующим. Иными словами, Кант принципиально отвергает идеалистический тезис тождества бытия и мышления, поэтому, в противоположность Гегелю, он и не хочет рассматривать проблему содержательного, синтетического понятия — предмета — как логическую проблему.
Выше мы уже отмечали, что для Гегеля проблема чувственности не составляет никакого труда, ибо он как последовательный идеалист отверг «вещь в себе». Чувственность таким образом превратилась у него в лишь «недоразвитое» понятие, создающее иллюзию чего-то другого, вне понятия существующего. На деле это для понятия — «свое — другое».
Кант самым резким образом выступает против подобной идеалистической метафизики. Естественно, что при этом он имеет в виду, конечно, не Гегеля, а его идеалистических предшественников. Вот что он пишет «Лейбнице-вольфовская философия сообщила всем исследованиям о природе и происхождении наших знаний совершенно неправильную точку зрения, признавая различие чувственного знания от умопостигаемого только логическим. На самом деле, это различие трансцендентальное (т. е. выходящее за пределы Разума, логики. — Ю. Б.). Оно коренится не просто в форме отчетливости, а в происхождении и содержании знаний».
Конечно, сам Кант еще во многом разделял предрассудки рационалистической метафизики. Как отмечалось выше, это выразилось уже в том, что главный вопрос своей «Критики», сконцентрировавший все важнейшие антимонии докантовской философии, он поставил в форме логической проблемы синтетического суждения. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что «объяснение возможности синтетических суждений есть задача, с которой общая логика не имеет никакого дела и которой она не должна знать даже по имени» . Имея в виду современные дискуссии, можно выразить это кантонское положение и следующим образом Кант не так нетерпим, как Гегель. Пусть логика (формальная, конечно, т. е. «математическая», «символическая», «семантическая» и т. д.) занимается своим весьма полезным делом. Пусть она оттачивает свои «формализованные» конструкции. Не следует только гипостазировать область ее применения, не следует подменять ею философию, ибо вопрос о происхождении нашего сознания (в том числе и о происхождении самой этой логики), об отношении сознания к бытию — не ее дело.
Однако вернемся к поставленному выше вопросу. Итак, обнаружив, что «чистые» рассудочные понятия сами по себе-лишь фикции, лишь иллюзорные, побочные продукты самодеятельности продуктивного воображения, Кант тем самым перевернул всю традиционную теорию образования понятий как «абстрагирования» свойств, общих ряду эмпирических существовании.
Единственно реальным продуктом самодеятельности продуктивного воображения оказалось в самом себе содержательное всеобщее понятие-предмет-единственно реальный «кирпич» нашей мозаичной картины мира. Таким образом, главным вопросом теории образования понятий оказался отнюдь не логический вопрос об основании самой предметности. Как же «сконструирован» этот предмет? Какова его «природа»? Иными словами, какова природа самой продуктивной самодеятельности?
Характерно, что неокантианство, вызванное к жизни в определенной степени естественнонаучной реакцией против гегелевской логической спекуляции, основанной на принципе мистического тождества бытия и мышления, что обусловило невозможность применения диалектики к естественным наукам, неокантианство, выставившее лозунг «назад к Канту», совершенно не поняло кантовской постановки вопроса. Не поняло потому, что оно с самого начала было идеализмом, с порога отвергающим «вещь в себе» «как «досадную непоследовательность» учителя. Именно поэтому неокантианство явилось чем угодно, но только не «кантианством». И это с особой рельефностью выразилось в некантианской трактовке теории образований понятий.
Здесь нет места подробно анализировать эту чисто » историко-философскую проблему. Поэтому мы лишь очень кратко рассмотрим теории крупнейших представителей Баденской и Марбугской школ — Риккерта и Кассирера, что поможет нам при анализе кантовской «схемы».
Что касается Риккерта, он действительно шагнул назад, но не «к Канту», а много дальше. В своих «Границах естественнонаучного образования понятий» он по существу лишь возродил плоскую, созерцательную теорию абстрактных родовых nomina, призванных «упрощать» экстенсивное и интенсивное многообразие телесного мира. Первый раздел его книги так и называется «Многообразие телесного мира и упрощение его благодаря общему значению слов».
Конечно, Риккерт понимает, что дальше чисто пассивного сравнивания и классификации на такого рода понятиях не уедешь. А посколько современная ему наука отнюдь не ограничивается классификацией (подобно науке средневековой, на почве которой и родилась теория абстракций), он вынужден делать оговорки «Понятия были бы всего лишь комплексами признаков, если бы они служили лишь для классификации».
Что же Риккерт предлагает науке вместо классификации? Да ту же самую классификацию, только несколько «подправленную». Оказывается прежняя, «донаучная» классификация была случайной, «произвольной». Поэтому нужно сделать ее «необходимой». А для этого нужно не останавливаться на понятии, но переходить… к суждению, сделать само понятие «эквивалентным» суждению «Классификация, остающаяся только классификацией, всегда произвольна. Необходимую классификацию всегда можно установить лишь принимая в соображение теорию… стало быть, образование понятий, а конечно, и понятия, в этом случае, где дело идет о познании некоторой доли действительности, равным образом логически эквивалентны суждению». И эта пошлая болтовня на тему о классификаторской функции понятии, единственная ценность которых в том, что они пусты (чем пустее, тем ценнее! ), оказалась возможной и даже «популярной» после того, как был Кант, после того, как был, в конце концов, Гегель! Эта наивная болтовня претендует на титул новейшей («нео») философии, на то, что она «развивает» Канта! Поистине, неисповедимы пути буржуазных профессоров философии.
Теория Кассирера несравнимо интереснее риккертовской. Да это и естественно, ибо неокантианство как законное детище капиталистического «поточного» производства имеет свою строжайшую специализацию баденский «цех» специализируется на изготовлении культурно-исторических концепций, марбургский — логических, гносеологических, естественнонаучных. Риккерт в данном случае допустил «вольность». Будучи булочником, он решил сшить сапоги, за что и получил здоровенную оплеуху от сапожников.
Кассирер в первой же главе («К теории образования понятий») своего главного логического сочинения «Познание и действительность» не оставляет «камня на камне» от концепции родовых абстракций, которые, согласно традиционной логической теории, суть продукты «счастливого дара забвения, свойственного нашему духу», духу, главная функция которого состоит в том, чтобы ставить «на место дейсгвительного восприятия его изувеченные, бескровные остатки». На основе анализа обширного логического материала, Кассирер основательно доказывает, что если допустить традиционную посылку, никак не избежать вывода, что «мышление, поднимаясь от низших понятий к высшим и более объемлющим, все время движется в области одних лишь отрицаний». Но кому нужно такое мышление? Уж во всяком случае не науке, которая призвана отнюдь не «предавать забвению» по возможности большее количество конкретных свойств и отношений вещей, но, напротив, выявлять и объяснять их. Где же здесь выход? Какова действительное происхождение и назначение понятий?
Подлинное понятие-это не «абстракция», и оно производится отнюдь не путем «абстрагирования» или логического «выведения» из «пустого» чего-то еще более «порожнего» «Понятие не выводится, а предполагается наперед», — вот вывод Кассирера. И нужно сказать, что здесь он (в противоположность Риккерту) действительно близок к Канту. Но всего лишь близок, ибо он (как и вся послекантовская идеалистическая философия) отвергает кантовскую материалистическую постановку вопроса о чувственности, непосредственно связанной с «чем-то», с «вещью самой по себе».
Для Кассирера, как и для всего послекантовского идеализма, вообще не стоит проблема чувственности. Поэтому из его «наперед» данного понятия и не получается предмета. Он, как и Кант, хочет сделать понятие изнутри содержательным, но эту содержательность он, как и Гегель, хочет найти в самом мышлении.
«Всякая истина — есть система» — это гегелевское положение целиком разделяет и Кассирер. Ведь, согласно ему, единственное, что у нас имеется, — это «система идеальных предметов, совокупное содержание которых выражается целиком в их взаимных отношениях». Кассирер в своем роде лишь более «последователен», чем Гегель, во всяком случае, менее склонен к мистике. В его понятии вообще ничего не остается от чувственности, даже гегелевской чувственной «иллюзорности» «неразвитого» понятия. И неудивительно, что единственно доступной нам содержательностью оказывается у Кассирера чистая функциональность мышления, наиболее адекватно выраженная в функциональной упорядоченности математического числового ряда. «Методическим преимуществом науки о числах оказывается как раз то, что в ней оставляется без рассмотрения «что» элементов» образующих некоторую определенную поступательную связь, и рассматривается лишь «как» этой «связи».
Таким образом, абсолютно все содержание «идеального предмета»-понятия сводится к его месту в системе, к его функциональным связям с целостной системой мышления. Вне этих связей предмет-понятие равен нулю.
С этих позиций Кассирер обрушивается на позитивистское понятие «факта». В результате кропотливого анализа истории математического и естественнонаучного знания и современных физико-математических теорий Кассирер доказывает, что все подлинно научные понятия оказываются лишь «средствами представить «данное» в виде рядов и закрепить для него определенное место внутри этих рядов. Научный эксперимент дает это последнее окончательное закрепление; но чтобы оно было возможно, необходимо теоретически установить и обосновать сами принципы ряда, сами точки зрения». Таким образом, от самого по себе эмпирического «факта» при ближайшем рассмотрении не остается ровным счетом ничего;. «Так, например, каждый астрономический «факт» заключает в своей формулировке весь аппарат понятий небесной механики, затем основные учения оптики и даже все существенные части теоретической физики вообще».
Следует подчеркнуть, что здесь Кассирер опять-таки близок к Канту. Но опять-таки лишь близок. Положение «Всякая истина — есть система» — это изначально кантовское положение, а не гегелевское, как принято считать. Однако у Канта оно имеет иной смысл, чем у абсолютного идеалиста Гегеля и у абсолютного «неокантианца» Кассирера. В противоположность Гегелю. кантовская система принципиально не может быть завершенной, ибо абсолютная истина навсегда останется «вещью в себе». В противоположность Кассиреру, кантовская «мозаичная» система не есть абсолютно самодовлеющее, лишь на себе самом основанное и в себе самом необходимое мышление. Кантовская предметная система есть продукт произвола воображения, и в качестве «самодовлеющей» она всего лишь сновидение. Напротив, как действительная система опыта, как картина мира — она посредством чувственности связана с вне и независимо от мышления существующей вещью самой по себе; и не просто связана (ибо даже сновидения «строятся» воображением на основе случайных чувственных восприятии» ), но, главное, в процессе систематической целенаправленной практической деятельности постоянно и непрерывно уточняется и корректируется вещью самой по себе. Этим непрерывным практическим уточнением (непрерывным «сличением» нашего «произвола», с «произволом» «вещи самой по себе») и отличается сон от яви.
Таким образом, Кассирер действительно «приближается» к Канту. Но при этом он остается абсолютным идеалистом. Его чисто функциональная система «идеальных предметов» не имеет никакого «выхода» в действительность, она вынуждена замкнуться в самой себе, саму себя объявить единственно действительной «вещью самой по себе» — фортепиано, которое само на себе играет. И неудивительно, что Кассирер, в конце концов, обращает свои взоры не к Канту, а — к Платону, трансформированному в духе буржуазного «чисто мыслительного» априоризма и трансцендентализма другим неокантианцем — Наторпом.
Характерно при этом, что изучение Канта и здесь (в противоположность Риккерту) положительно сказалось на «вкусах» Кассирера. Он выхватывает из Платона наиболее рациональную идею идею, за которую Кант назвал Платона «великим», а именно космически гипостазированное понимание целесообразной деятельности. «Знанию простой смены явлений Платон прежде всего противопоставляет рассмотрение их телеологической связи. Мы не имеем истинного познания естественных процессов, пока мы рассматриваем их только в качестве индифферентных (пассивных, незаинтересованных! — Ю. Б.) зрителей; мы его получаем лишь тогда, когда рассматриваем весь развертывающийся перед нами процесс, как некоторое целесообразно расчлененное целое. Мы должны понять, как один момент требует другого, как все нити оплетаются между собой, чтобы под конец соединиться в одну ткань… Мы не сумеем понять истинно какое-нибудь отдельное явление, если не укажем ясно его место в совокупном плане действительности («действительность» здесь понимается, конечно, как телеологически завершенный космический «разум».- Ю. Б.)… Последним и решительным основанием этого (т. е. целостное системы разумной действительности. — Ю. Б.} может быть лишь «благое и справедливое» («Федон», 99 и ел. 109). Чувственное бытие должно быть сведено к его идеальным основаниям; но завершением царства идей является идея добра, в которую таким образом упирается все наше понимание».
Как отмечалось выше. Кант выделяет именно это направление мыслей Платона. Но при этом он, в противоположность Кассиреру, отнюдь не склонен к слепому подражанию «великому» философу. Он критикует его за идеализм, не соглашается «с его мистической дедукцией идей и с преувеличениями, которые привели его как бы к гипостазированию идей». Иными словами. Кант выделяет рациональное зерно в учении Платона о целесообразно расчлененной и целесообразно функционирующей системе идеальных предметов — целей. При этом Кант совершенно точно фиксирует «истоки» этого хода мыслей. Истоки платоновской «натурфилософии идей»
Кант усматривает в учении последнего о человеческом общественном сознании о «полисе-космосе», о «государстве» . Но Кант «не согласен» с гипостазированием этого учения в космически-онтологический идеализм, не согласен, иными словами, с допущением метафизического, вне и дочеловеческого существования «цели», «добра», «идеи» самих по себе.
«Близким» к Канту оказывается и другой, непосредственно связанный с указанными выше и также некритически воспринятый Кассирером ход платоновских мыслей. А именно — его пифагорейско-математическое учение. «Первый и необходимый шаг состоит повсюду в том, чтобы превратить чувственно-неопределенное, которое как таковое, нельзя охватить и заключить в твердые границы, в количественно определенное, управляемое мерой и числом. Особенно ясно развивают это требование позднейшие платоновские диалоги, как, на— пример, Филеб… Бытие лишь постольку космос, целесообразно расчлененное целое, поскольку оно управляется строгими математическими законами. Математический порядок есть одновременно и условие и первооснова состава действительности; числовая определенность вселенной есть вернейшая порука ее внутреннего самосохранения».
Повторяем, Канту близок и этот ход мыслей «великого Платона», ибо кантовский идеальный предмет — понятие — цель по своей «схеме» есть прежде всего «экстенсивная» — арифметическая (временная) и геометрическая (пространственная) — величина. Но вместе с тем Кант отнюдь не склонен пифагорейски трактовать эти предметные величины-меры как «вещи сами по себе». Согласно Канту, величины (количество вообще)- это лишь предметные формы нашей целесообразной деятельности.
5. Кантовская теория образования понятий. Полемика с Фихте
Кантонское содержательное, чувственное понятие есть не нечто само по себе сущее, а лишь предметная форма деятельности, а именно — продуктивной деятельности воображения. Повторяем, «схема чувственного понятия… есть продукт и как бы монограмма чистой способности воображения, a priori». Здесь особое внимание следует обратить на это «a priori», которое служит в данном контексте прямым указанием на доопытность и внеэмпиричность «схемы».
Как же сконструировано это чувственное, и тем не менее априорное, т. е. не эмпирическое «понятие» — предмет? Иными словами, какова природа «продукта и монограммы» «априорной» деятельности воображения — «схемы»? Что такое «схема»?
Как уже отмечалось, этот узловой пункт кантовского учения оказался наиболее «пострадавшим» в процессе развития послекантовской философии. Глава «О схематизме», так же как и «Трансцендентальная дедукция чистых понятий рассудка», где вводится «самодеятельность» продуктивного воображения, либо трактовалась в пошлом плане эмпирического ассоцианизма, либо характеризовалась просто как «темная» (например, Куно Фишер). Даже в таком глубоком марксистском исследовании, как «Диалектика Канта» В. Ф. Асмуса, эти действительно «путаные» изыскания характеризуются не иначе, как «схоластикой непомерно раздутого гносеологического копательства».
Рассматривая «схематизм» выше, мы тоже приняли традиционную ассоцианистскую трактовку в качестве «эвристического» приема, оговорив, что и сам Кант использовал, возможно, подобный «эвристический прием».
Однако пора разобраться в вопросе по существу. В чем же тут дело? Зачем Канту понадобилась подобная мистификация?
Что мистификация здесь явная — в этом нет сомнения, ибо, согласно прямым указаниям Канта, априорная «схема» (продуктивная самодеятельность вообще) возникает не из опыта, не из эмпирической ассоциации, но сама является условием всякого опыта «всякого знания вообще», лишь благодаря ее наличию впервые становится возможной всякая ассоциация (т. е. уже «репродуктивное» воображение). Более того, лишь благодаря «схеме» становится возможной и сама ее же абстракция — чистое рассудочное понятие формальной логики. Наконец, только благодаря «схеме» (точнее — самой, произвольно направленной деятельности воображения) становится впервые возможной и сама чувствен-ность, чувственность как сознательное, а не подсознательное пассивное восприятие.
И вместе с тем не кто иной, как сам Кант, с самого начала своей «Критики» в качестве исходных, единственных, окончательных и абсолютно самодовлеющих элементов всякого возможного знания постулирует априорные, чистые рассудочные понятия (которые, по существу, суть не что иное, как формально-логические понятия) и чувственность, саму по себе совершенно безотносительную к рассудочным бессодержательным формам. При этом продуктивное воображение первоначально «вводится» лишь как некий проблематичный «неизвестный нам» общий «корень», призванный сыграть роль чего-то вроде «среднего термина» или «связки». А в «Пролегоменах» этот «корень» и вообще не рассматривается (очевидно, чтобы избежать «гносеологического копательства» и сделать изложение более «популярным» и «удобным» для интерпретаторов). Роль «среднего термина» здесь играет… трансцендентальная апперцепция! — т. е. то же самое чистое, незамутненное никаким «синтезом» с чувственностью, формально-логическое, бессодержательное, понятие «я»!
Таким образом, повторяем, мистификация здесь явная. Но является ли она сознательным «эвристическим приемом»? Уточним вопрос. То, что эта мистификация оказалась в конечном счете ( не в «Пролегоменах», конечно) лишь «эвристическим приемом», — это факт. Но было ли это сознательно использованным «приемом»?
При всем уважении к Канту на этот вопрос, очевидно, следует ответить отрицательно. Кант вышел» из созерцательной, метафизической философии Просвещения,-и он разделял все основные ее предрассудки. Единственным отличием от предшествующих ему узких эмпириков и рационалистов было то, что Кант взял в качестве исходной предпосылки своей «Критики» не рационализм с его априоризмом и врожденными ^идеями и не эмпиризм с его релятивистским сенсуализмом, а то и другое вместе. Антиномия рационализма и эмпиризма тем самым не ликвидировалась, она была лишь преобразована в не менее острую антимонию метафизически застывших априорных абстрактных рассудочных категорий и такой же метафизически неподвижной, априорной по форме и совершенно иррациональной по содержанию лишь пассивно воспринимающей чувственности. Эти два элемента были раз и навсегда даны. С них Кант начал свою «Критику», ими же и закончил.
На протяжении всей своей «Критики» Кант бился над тем, чтобы «связать» свои исходные, метафизически бесплотные абстракции в единый- узел живого продуктивного познания. И он связал их! Но его вера в просветительские фетиши была столь сильна, что даже тогда, когда в его собственных руках старые боги оказались лишь идолами (продуктами воображения!), он продолжал молиться н-м. Иначе он не мог. Ведь он был просветитель! И он искал оснований, и «полномочий» чистого теоретического разума. Но нашел он нечто совершенно иное. Оказалось, что никаких собственных «полномочий» у чистого теоретического разума нет и быть не может. Сам по себе он лишь фантом, плод чистого воображения, лишь сновидение. Все свои «полномочия» и всю свою «объективность» он может получить лишь от чего-то совершенно иного, а именно — от по существу своему практической (а отнюдь не теоретической, «познавательной»), предметной, чувственной, сугубо «заинтересованной» деятельности. Таким образом, на поверку теоретический разум оказывался во-первых, не «в самом себе» необходимым разумом, но лишь произвольным воображением, и, во-вторых, не «теоретическим», но практическим. Иными словами, этот наиценнейший «дар божий» — возвышенно созерцательный, ни в чем, кроме «истины», не заинтересованный Разум, оказывался лишь побочным продуктом «низменной», «грубо утилитарной» практической деятельности — труда!
Это было колоссальной важности открытием, обозначавшим крушение всякой метафизики; открытием, долженствующим явиться по существу своему не «результатом», но подлинным «началом», той исходной «клеточкой», с которой можно было бы начать совершенно новое, действительно плодотворное исследование всех форм человеческого сознания, да и не только сознания! Но мог ли Кант безоговорочно принять эту «клеточку» — результат своего же собственного «гносеологического копательства»? Ведь принять этот свой собственный вывод значило для Канта во-первых, поставить окончательный крест на всей просветительской метафизике, т. е. на своих собственных фетишах; и, во-вторых, это требовало от него выбросить в ближайшую мусорную яму все свои чистые, априорные, трансцендентальные посылки и вплотную заняться вместо этого конкретным .анализом самой обыкновенной (отнюдь не только «моральной»), основательно «загрязненной» в его эпоху практической деятельности.
Мог ли немецкий бюргер и возвышенный созерцательный философ Кант пойти на это? Мог ли он выдвинуть тезис «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»? Да и что мог бы означать в устах «просветителя» и теоретика Канта призыв к реальному изменению мира? Ведь на его собственных глазах произошли все «ужасы» Великой французской революции. Иными словами, мог ли немецкий бюргер, живший в XVIII столетии, стать марксистом-революционером?
Нет, конечно! Кант был всего лишь крупнейший буржуазный философ-просветитель. И он натолкнулся на огромной важности открытие. Но он вынужден был своими собственными руками закапывать его. Ибо время еще не пришло. Конечно, окончательно «замести следы» помогли ему его «последователи». Но это не их вина, так как сам Кант, несмотря на методичность своего мышления, оказался эклектиком — полуматериалистом, полуидеалистом, полуэмпириком, полурационалистом, полудиалектиком, полуметафизиком. Он предпочел навсегда застрять в неразрешимых антимониях-столь «ужасным» и «неправдоподобным» казалось ему его открытие! Идеалистическая диалектика, явившаяся побочным продуктом открытия деятельной основы познания. легко вышла из затруднения; она сделала Канта «последовательным» в рамках собственной односторонности.
Первым и важнейшим актом этого превращения явилась «небольшая операция» над кантовским продуктивным воображением. В руках Фихте оно, сохранив свой «самодеятельный» характер, свою «самоаффектацию», перестало быть воображением! Оно обернулось свободной, самодеятельной интеллектуальной интуицией «я», т. е. стало чистым и «в самом себе» необходимым творчеством бытия из небытия. Первым субъектом такого «творчества», естественно, стал сам Фихте. Однако претензия на единоличную абсолютную .творческую власть над всем миром оказалась слишком предосудительна для обыкновенного профессора философии, и он поспешил укрыться за некое «наиндивидуальное» «я», превратившееся позже в гегелевский «абсолютный дух».
Конечно, дозволялось и «воображение». Но лишь репродуктивное (а не «априорное», продуктивное), лишь эмпирическое, ассоциативное. Но в качестве такового оно выпадало из сферы философии, становилось предметом «пошлой» эмпирической психологии.
Такая же судьба постигла и «продукт» самодеятельности воображения — предметность. Последний превратился в саморазвивающееся логическое «содержательное» понятие. Что у Канта было сверх того, объявлялось «темной» схоластикой гносеологического копательства! Таким образом. Кант был «исправлен» и превратился в «последовательного» идеалиста. И это несмотря на то, что сам Кант, вопреки своему «врожденному» отвращению ко всякой публичной склоке и к «газетам» в особенности счел необходимым опубликовать 28 августа 1799 г. «Публичное заявление», в котором с предельной четкостью и определенностью было объявлено нижеследующее «Я объявляю сим, что считаю фихтевское наукоучение совершенно несостоятельной системой. Ибо чистое наукоучение есть не более и не менее, как только логика, которая не достигает со своими принципами материального момента познавания, но отвлекается от содержания этого последнего как чистая логика; стараться выковать из нее некоторый реальный объект было бы напрасным, а потому и никогда не выполнимым трудом… Что же касается метафизики, сообразной фихтевским принципам, то я настолько мало склонен принимать в ней участие, что в одном ответном послании советовал ему заняться вместо бесплодных мудрствовании- (apices) культивированием его прекрасной способности излагать, которой можно было бы с пользой дать применение в пределах критики чистого разума но им это предложение мое было вежливо отклонено с разъяснением, что «он все же не будет терять из виду схоластического момента».
А ведь Фихте был самым талантливым учеником и последователем Канта! Недаром Кант в своем «Публичном заявлении» вынужден был с горечью аппеллировать к богу «Охрани нас, боже, лишь от наших друзей; с врагами же нашими мы и сами справимся!».
Но, как известно, никакие «публичные заявления» не помогли, ибо кантовское открытие никак не укладывалось в рамки немецкой идеалистической философии той эпохи, призванной быть лишь мистифицированной, абстрактно-теологической теорией революционной французской практики. Немецкий классический идеализм в силу неразвитости экономических отношений в Германии той эпохи не хотел и не мог быть ничем, кроме возвышенной, чисто просветительской, никак не связанной с практикой болтовни о Разуме, Человеке, Идеале я т. д. Принять же кантовское открытие — значило спуститься с неба на грешную и весьма неуютную землю. А этого отнюдь не жаждал даже и сам Кант. Поэтому в ответ на «Публичное заявление» последнего, Фихте мог спокойно заметить, что Кант «сам не знает и не понимает своей философии», ибо он — человек «трех -четвертей — головы».
6. «Схематизм» воображения и проблема целесообразной предметной деятельности (труда)
Что же такое кантовское не логическое «содержательное понятие»-предмет-«схема»? Читаем «Представление об общем приеме способности воображения, доставляющем понятию образ, я называю схемою понятия. В основе наших чувственных понятий действительно лежат не образы предметов, а схемы». Схемы чего? Воображения! Но воображение есть синтетическая, чувственно-рассудочная деятельность. При этом через «воспринимающую» чувственность оно непосредственно связано с «вещью самой по себе», и вне непрерывной материально-практической «проверки» оно остается лишь «сновидением». «Схемой» чего же является наше чувственное, предметное понятие?
Чувственное предметное понятие, единственно реальный «кирпичик» нашей «мозаичной» картины мира, есть схема нашей же целесообразной материально-практической самодеятельности. Именно самодеятельности! — самопроизвольной свободной деятельности! Ибо материальная практическая деятельность присуща и животным. Но животное потому и не обладает понятием (в том числе и «трансцендентальной апперцепцией»), что его деятельность чисто стихийна, инстинктивна, бессознательна. Она не есть творческая самодеятельность. В противоположность животному, как говорил Ф. Энгельс, человеку «никак не избегнуть того обстоятельства, что все, что побуждает человека к деятельности, должно проходить через его голову». А вот что пишет по этому поводу Маркс «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции) ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой -архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже, построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, т. е. идеально. Работник отличается от пчелы не только тем, что изменяет форму того, что дано природой в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю».
Здесь имеет смысл рассмотреть любопытный философский вопрос, в самой форме постановки которого уже содержится метафизическая антимония. Чем являются наши идеальные предметные понятия — пассивными отражениями, копиями вне и независимо от нас существующих вещей или продуктами нашей же самодеятельности?
Сама постановка этого вопроса требует однозначного ответа «да» или «нет»; что сверх того, то от лукавого. И на протяжении всей истории философии профессора метафизики говорили свое «да» или «нет». Это касается даже и такого принципиального противника однозначных ответов, как Гегель, с его — все-таки! — вполне однозначным, абсолютным идеализмом. Чего уж тут ждать от неокантианцев! У них тем более должен быть заранее заготовлен «категорический», вполне идеалистический ответ. И даже Риккерт. слегка попутавший, как мы видели. Канта со средневековым номинализмом, а посему, казалось бы, готовый признать понятия «отражениями», пишет «Может ли научное познание быть приравниваемо к отображению? На этот вопрос приходится дать категорически отрицательный ответ».
Давая «категорический» ответ на поставленный выше вопрос, подчас запутываются в решении простых проблем не только идеалисты и метафизики. Случается, что и некоторые «диалектические материалисты» забывают первый тезис Маркса о недопустимости забвения деятельной стороны и сбиваются на позиции материализма метафизического, созерцательного. Но, в самом деле, если всякое представление и понятие — лишь отражение, то отражением чего, например, являются все мифы, в действительность которых некоторые люди даже и сейчас верят?
Итак, что же такое наше идеальное предметное понятие? Субъективная деятельность или отражение?
Кант достаточно «однозначно» ответил на этот замысловатый вопрос. «Однозначно» ровно настолько, насколько он оставался философом, понимающим природу чувственной субъективной .деятельности. Хотел или не хотел того Кант, но его «чувственное понятие» оказывалось и отражением, и субъективной деятельностью; а точнее — деятельным, целесообразным, практически направленным отражением! При этом, собственно отражением понятие является лишь настолько, насколько оно непрерывно «оправдывает» себя в процессе материальной практической деятельности. Повторяем; хотел или не хотел этого Кант, но его предметное понятие оказывалось «отражением внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли».
Попробуем ближе рассмотреть «структуру» и происхождение предметного, чувственного понятия — схемы.
«Схема сама по себе, — пишет Кант, — есть всегда лишь продукт способности воображения, но так как этот синтез воображения имеет в виду не единичное наглядное представление, а только единство в определении чувственности, то схему следует все же отличать от образа. Так, если я полагаю пять точек одна за другою…, то это — образ числа пять. Наоборот, если я мыслю только число вообще, безразлично, будет ли это пять или сто, то такое мышление есть скорее представление о методе соединения множества».
Постараемся разобраться в этом весьма важном кантовском положении.
а) Схема «доставляет образ», но сама схема не есть образ, ибо схема не просто нечто чувственное, но «чувственное понятие», чувственное всеобщее. В самом деле, «образно» мы можем представить не число вообще, не окружность вообще, но лишь пять груш, трех человек, вполне конкретную, данную окружность диаметром в 5 или 45 см. — не более, не менее. Образа окружности «как таковой» получить мы не можем. Хотя, подчеркиваем, сам эмпирический образ окружности впервые становится представимым при наличии понятия окружности «как таковой». Без этой окружности «как таковой» не было бы и эмпирического образа конкретной окружности. В этом смысл положения, что именно «схема доставляет образ», а не наоборот.
б») Что же такое эта «окружность как таковая», которую мы никак не можем адекватно представить образно? Может быть все же можем? Ведь согласно Канту, схема, т. е. чувственное всеобщее, лежащее в основе чувственного единичного, тоже представление, т. е. в основе своей нечто чувственное. Что же это такое? Представлением (чувственным образом, если угодно) чего является само всеобщее? Кант дает вполне определенный ответ. Схема — это «как бы монограмма способности воображения a priori». Но воображение — это не «вещь», это — деятельность. Следовательно, схема, т. е. всеобщее, есть чувственный образ, представление не эмпирического случайного предмета, но самой деятельности! Или, как говорит Кант, «схема есть… представление о методе соединения», о методе синтеза.
Итак, схема есть вполне чувственное, вполне «телесное» представление о методе построения всякого эмпирического образа. Схема есть априорный чувственный образ деятельности построения всех эмпирических чувственных образов данного идеального всеобщего предмета. (Вспомним рассмотренные выше кантовские положения
«Мы не можем мыслить линии, не проводя ее мысленно, не можем мыслить окружности, не описывая ее» и т. д.).
Любопытно, что некоторые аналогичные «догадки» можно «обнаружить» и в докантовской филбсофии, в частности у Спинозы, хотя у последнего они остаются» лишь «догадками», не имеющими никакого значения в его общей метафизической системе. Тем не менее приведем одно занимательное рассуждение Спинозы, что поможет нам проиллюстрировать ход кантовских мыслей.
Спиноза в данном случае «бьется» над проблемой истинного, всеобщего определения вещи «Чтобы можно было назвать определение совершенным, оно должно будет выразить внутреннюю сущность вещи и не допускать того, чтобы мы взяли вместо нее какие-нибудь свойства вещи» , т. е. здесь, согласно Спинозе, нельзя следовать традиционной теории определения — абстрагирования свойств! В качестве примера такого ложного «несовершенного» определения Спиноза рассматривает общепринятое в математике определение круга «Если определить его (круг.- Ю. Б.) как фигуру, у которой линии, проведенные от центра к окружности, равны, то всякий видит, что такое определение совсем не выражает сущности круга, а только некоторое его свойство».
В чем же усматривает Спиноза подлинно всеобщее определение круга, его «внутреннюю сущность»? Очевидно, «внутреннюю сущность» «сотворенной вещи» следует искать в самом акте творения. Всеобщее определение (понятие) круга должно выражать саму причину возникновения данной вещи, т. е. должно выражать сам целесообразный акт (точнее, метод) ее производства, ибо все частные свойства данной вещи имплицитно заключены в самом акте ее построения.
Читаем «Если данная вещь — сотворенная, то определение должно будет, как мы сказали, содержать ближайшую причину. Например, круг по этому правилу нужно будет определить так это фигура, описываемая какой-либо линией, один конец которой закреплен, а другой подвижен». Из этого всеобщего [h в то же время-вполне чувственно наглядного) «определения» сами собой вытекают и все божественные свойства круга, в частности, и тот «непостижимый» и никогда в абсолютности не достижимый эмпирически «факт», что «в идеальной» окружности все радиусы равны. Более того, данное всеобщее понятие не просто «доставляет образ» круга «самого по себе», т. е. обеспечивает и впервые делает возможным «отражение» эмпирических, вне нас существуют «природных», так сказать, кругов. (Обеспечение возможности «созерцания» — это лишь побочная, производная функция всеобщего чувственного понятия.) Главное его назначение-дать метод (схему!) воспроизводства любых, бесконечно разнообразных кругов. Ведь по существу, в качестве «совершенного» определения Спиноза дает не что иное, как описание конструкции и способа действия, простейшего орудия труда — циркуля. То, о чем он здесь «догадался» — суть кантовского «схематизма».
Схема — это не конкретный эмпирический «созерцательный» образ. «Понятию о треугольнике, — пишет Кант, — вообще не мог бы соответствовать никакой образ треугольника. В самом деле, образ всегда ограничивался бы только частью объема этого понятия никогда не мог бы достигнуть всей общности понятия, которое должно иметь значение для всех треугольников, прямоугольных, остроугольных и т. п. Схема треугольника не может существовать нигде, кроме как в мышлении, и обозначает правило синтеза способности воображения», т. е. правило, метод нашей целесообразной деятельности воспроизведения и лишь постольку — восприятия и представления в твердых предметных формах этой деятельности воспроизводства всех «треугольников» вообще.
Отражением чего же является наше идеальное (лишь в нашем мышлении существующее) предметное понятие-схема? Очевидно, отражением лишь нашей целесообразной произвольной деятельности? Отражением лишь «зачем» и «как», но не «что»?
Да, с одной стороны, схема (т. е. всеобщее понятие) может быть отражением лишь нашей субъективной деятельности, ибо она показывает не «что» предмета, а лишь «для чего» и «как» он нами делается.
Но, с другой стороны, именно постольку становится возможным впервые получить «Представление, «образ» и самого «что» предмета. Т. е. лишь на основе практической, утилитарной деятельности становится возможным само непрактическое, теоретическое, «незаинтересованное» отношение к миру; впервые становится возможным отражение «что» предмета «самого по себе». Правда, это «что» может предстать перед нами лишь в формах нашей практической деятельности, т. е. лишь в формах «зачем» и «как».
Попробуем разобраться, как это все происходит.
Мы приняли, что всякое всеобщее понятие фиксирует лишь «как», т. е. показывает способ, метод, правило нашего целесообразного производства и воспроизводства данного предмета. Иными словами, всякое всеобщее понятие фиксирует (как бы навеки «цементирует», «отливает» в предметную форму) то — «как» и «зачем» мы «это» делаем.
Например, есть миллионы совершенно ни в чем не похожих друг на друга домов. И однако все эти совершенно различные «вещи» мы воспринимаем и представляем по одной схеме — для чего и по какому принципу эти вещи построены, а следовательно, могут быть нами воспроизведены.
В самом деле, почему совершенно различные эмпирические вещи (например, деревянное сооружение, или, скажем, фотографию этого сооружения, т. е. кусок бумаги) мы можем представлять как образ, наглядный вид дома? Подчеркиваем, мы представляем данную вещь именно как образ дома, а не чего-нибудь еще, ибо представляя это «нечто» именно как дом, мы не только мысленно, но зрительно фиксируем внимание на «чертах», характерных именно для дома. Мы никогда не видим что-то вообще. «Что-то вообще», «вещь саму по себе» видеть нельзя. Зрение всегда понятийно направлено, и видит лишь что-то в той или иной степени определенное. Именно поэтому то что видит человек, не может увидеть орел, и наоборот. Направленность зрения в данном случае проявляется уже в том, что мы способны рассматривать фотографию как образ, вид дома. При этом мы не видим самой «фотографии» — бумаги с черно-белыми пятнами и полосами. Мы видим «дом», а не «фотографию». Ту же самую вещь мы можем рассматривать и не как образ «дома», но как образ, вид «фотографии» вообще. В этом случае мы будем видеть бумагу, покрытую черно-белыми или цветными пятнами, но не увидим при этом дома., (Характерно, что человека, находящегося на низшей ступени развития и не знакомого с искусством рисунка, очень трудно заставить «опознать» в фотографии образ известного ему предмета. Он «видит» только кусок «грязной» бумаги и больше ничего. Дети тоже лишь постепенно научаются видеть рисунок. Напротив, взрослый цивилизованный человек практически мгновенно «переключает» направленность своего зрения. Отсюда, из этой мгновенности — иллюзия, будто одновременно можно видеть и «кусок бумаги» и «дом», который на ней изображен.)
Итак, почему совершенно различные вещи мы можем представлять как наглядный образ именно «дома»? Например, нас спрашивают «Что такое дом?» В ответ мы объясняем, «для чего» строится дом, а тем самым и «как» он должен быть построен. («Для чего» всегда имплицитно содержит в себе и «как». Здесь не нужно двух слоев.) Затем мы указываем на какую-то вещь (фотографию, макет, строение или даже просто чертеж) и говорим «Это есть дом». Иными словами, мы утверждаем, что данное эмпирическое «нечто» показывает, как выглядит дом вообще. Но ведь, казалось бы, данное «нечто» показывает что-то совсем иное. Оно скорее показывает то, что для того, чтобы быть домом, совсем не обязательно выглядеть так, как выглядит именно данное «нечто» дом может быть не деревянным, но каменным, не двадцатиэтажным, но камышевой хижиной и т. д. И тем не менее — это есть дом! Мы его видим как «дом», а не что-нибудь иное. Что же мы в нем видим?
Что «направляет» наше зрение? Мы в нем видим и даже осязаем само всеобщее — наше идеальное понятие — цель. Мы видим в данной эмпирической вещи «нечто», предназначенное служить укрытием от снега и дождя, а тем самым мы видим и то, «как-» это «нечто» сделано. Иными словами, мы заранее ищем глазами в данной вещи крышу. Увидим ли мы здесь еще что-нибудь? Это уж зависит от степени утонченности наших понятий, или, что то же самое, всеобщих «схем» (способов) построения данного предмета.
Обладая соответствующими чувственно-понятийными схемами, мы разглядим и двери с замками, и окна с решетками (замки, естественно, предназначены не для зверей, а для людей, обладающих понятиями, а следовательно, могущих увидеть этот замок и сделать соответствующий вывод. Зверь не увидит не только замка, но к самой двери, разве что случайно ткнется в нее лбом). «Натренированный» глаз архитектора даже в древнем строении разглядит больше, чем средний обыватель, современник этого строения. И чем более развиты и утончены у этого архитектора всеобщие понятия, тем больше неповторимого, самобытного своеобразия заметит он в каждое детали, т. е. тем больше отклонений от стандартных схем увидит он здесь. Чем более развито и утонченно всеобщее, тем более наглядно и четко дается нам эмпирическое «единичное»-вещь сама по себе.
Итак, всякое предметное всеобщее понятие есть не просто фантом, оно — схема (метод) производства и воспроизводства предмета. Как таковое — оно тоже чувственное (хотя и внеэмпирическое, произвольное и лишь постольку- всеобщее) представление — представление способа нашей целесообразной деятельности.
Однако здесь возможен один «детский» вопрос. Вы показали, скажут нам.. что всеобщее понятие есть схема производства и воспроизводства предмета; показали это на примере «дома», который мы, люди, действительно сами производим и воспроизводим и который служит нашим целям. Но как быть, скажем, с обыкновенной собакой? Неужели всеобщее понятие «собака», обусловливающее само видение различных собак, тоже есть лишь схема нашего «производства» и «воспроизводства» этих животных? Ведь, как знает всякий ребенок, собака была создана не человеком, а Природой. И до сих пор неизвестно, по каким принципам Природа «строила» это животное и какую при этом преследовала «цель». Неизвестно, была ли вообще таковая.
На этот вопрос, согласно Канту, можно ответить Вы заблуждаетесь относительно Природы. Природа производит » вещи сами по себе». Та же собака, которую мы знаем, мы видим, была произведена не Природой, а нами самими. Поэтому-она явление, «вещь для нас». Причем ее образ производился нами по тому же принципу, «как и дом.
Конечно, между «домом» и «собакой» есть и разница. Дома мы можем строить не только в воображении, идеально, но и реально, на самом что ни есть твердом материальном фундаменте. Поэтому «дом» настолько же «вещь в себе», насколько «вещь для нас». Собак же реально «строить» мы пока еще не научились. Мы «строим» их лишь в воображении.
Разница между «домом» и «собакой» не только в этом. Для того чтобы научиться — хотя бы лишь в воображении — «строить» собак, нам необходимо было построить сначала вполне реальный (хотя бы самый примитивный) «дом», чтобы в процессе его реального строительства «узнать» и сделать всеобщими принципы всякого строительства вообще. В последнем — суть, ибо реальное «строительство» само по себе тоже еще ничего не дает. Ы пчела строит себе нечто подобное дому, но она сама не знает, что она строит и зачем. Она это делает непроизвольно, бессознательно. Лишь «умудрившись» обратить внимание, на то «как» он действует, а главное — выразить это в общезначимой форме коллективного представления — первобытный человек впервые закрепил способ своей целесообразной деятельности в виде всеобщей схемы-понятия. Тем самым он впервые научился «строить», в собственном смысле этого слова, не только реально, но идеально, в воображении. Тем самым впервые он узнал время, ибо идеально «закрепил», научился в воображении «воспроизводить» не что иное, как временную последовательность своих же собственных действий . Он научился воспроизводить схему своей деятельности в воображении. Точнее, своим первоначальным актом произвольно направленного (а не бессознательно-аффективного) внимания он произвел само воображение — сферу всякого творчества. Ведь в воображении он уже идеально (т. е. в виде всеобщих произвольных схем-проектов) может «строить» не только дома да топоры, но и собак, птиц, горы, деревья, собственное «я» и даже различных чертей и богов, построенных воображением по образу нашего же «я».
При этом следует иметь в виду, что все эти продукты воображения могут приобрести объективный, действительно всеобщий характер (т. е. стать собственно продуктивным воображением) лишь тогда, когда найден способ «общественно» закреплять их, когда этими продуктами становится «возможно делиться со всеми, ибо иначе… они были бы только субъективной игрой способностей представления» .
Однако вернемся к поставленному вопросу относительно всеобщего понятия «собака». Повторяем, согласно Канту, та собака, которую мы знаем, мы представляем, «произведена» не Природой, а человеком. Что касается «ребенка», утверждающего, что Кант говорит неправду, так это смотря какой ребенок. Ребенок, живший, скажем, в родовой общине, был уверен, что не только собаку, но и всю землю со всеми тварями, и небо, и звезды «сделал» его прапрадедушка — бог, т. е. тот же человек, только самый «первый» — мифический основатель рода. Древние люди, очень мало отличавшие идеальное от реального, в частности, идеальную собаку вообще от вполне конкретной живой Жучки, строили даже догадки, как это он — бог — умудрился все это «сделать»? Очевидно, при помощи слова. Ведь слово-это важнейший магический фетиш у всех первобытных народов; фетиш, которому приписывалась мистическая-сила творения идеально-реального предмета. «Вначале было слово» — вещает Библия.
Не будем же по вопросам теории образования предметных понятий апеллировать к «ребенку» . Обратимся к Канту «Понятие собаки, — пишет Кант, — обозначает правило, согласно которому моя способность воображения может нарисовать форму четвероногого животного в общем виде, не ограничиваясь каким-либо единичным частным образом из сферы моего опыта или вообще каким бы то ни было возможным конкретным образом.
Как видим, Кант предусмотрел «детские» вопросы и взял в качестве примера не только треугольник (или круг, как Спиноза), но именно собаку. Всеобщее понятие собаки оказывается, согласно Канту, также лишь схемой воображения, т. е. продуктом нашей самодеятельности, всеобщим «правилом» производства и воспроизводства образов любых бесконечно разнообразных, живых, конкретных собак.
Таким образом, оказывается, что не только «круг» или «дом», но и идеальное понятие, а посредством него и образное представление «собаки» производит и воспроизводит не Природа, но мы сами. И, конечно, для Канта было совершенно ясно, что в отличие от домов производим и воспроизводим мы не живых собак «самих по себе», но — лишь идеальных, лишь воображаемых, т. е. лишь образы. Живых собак самих по себе удавалось «производить» лишь таким великим диалектическим магам, как Фихте и Гегель. Им это ничего не стоило. Ведь у них, как и у первобытных люден, движение мышления есть движение самого бытия!
Напротив, у Канта здесь возникает непреодолимая трудность. Ведь недаром сразу же после примера с собакой он пишет «Этот схематизм… есть сокровенное в недрах человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам едва ли когда-либо удасться проследить и вывести наружу.
И в самом деле, как же конкретно производятся продуктивным воображением наши идеальные всеобщие предметные схемы; не только схемы «круга» или «собаки», но и, прежде всего, — нашего собственного «я».? Очевидно, в каждом случае необходим специальный сложнейший психологический, логический и историко-антропологический анализ. Здесь перед нами совершенно открытая сфера.
Но трудность не только в этом. У Канта остается открытым другой, уже собственно «философский» вопрос. Ведь наша всеобщая схема собаки есть лишь произвольный продукт нашего воображения; она, если- угодно, — лишь гипотеза. Это мы сами произвольно построили в воображении идеальную собаку и лишь постольку получили всеобщую схему ее эмпирического воспроизводства о различных образах — в виде нами же созданных глиняных статуэток, механических (или даже кибернетических!) игрушек, а главное-в образах живых вне и независимо от нас существующих четвероногих животных! Но что касается последних-здесь и заключается главный вопрос. Каким образом схема субъективной, произвольной деятельности нашего продуктивного воображения может соответствовать (отражать, если угодно) живой собаке самой по себе. Ведь живая собака — не механическая игрушка. Она «сделана» не нами; действительная «схема» ее «производства» и «воспроизводства» нам не дана. Поэтому живая собака — «вещь в себе». Она существует до нас и вне нас, и ей совершенно безразличны все произвольно выдуманные нами всеобщие схемы ее производства; все схемы эти по отношению к ней остаются лишь гипотезами.
Итак, все тот же старый вопрос какое отношение могут иметь произвольные схемы деятельности нашего воображения к вещам, существующим до нас и вне нас — к вещам самим по себе? Очевидно, никакого! Сами по себе — теоретически — они лишь плод фантазии, пустые гипотезы. Ведь вся «продуктивность» воображения заключается, собственно, лишь в том, что оно произвольно «переносит» всеобщую схему производства «вещи для нас» на «вещь в себе». В данном случае представляет собаку «сделанной» кем-то примерно по тем же принципам, как и «дом», или, скажем, «круг». И эти схемы остаются лишь фантазиями, лишь гипотезами до тех пор, пока они не включены в сферу действительных материальных отношений. Только в этой сфере и может обнаружиться, что наша схема-лишь плод воображения. Например, предположим, что, согласно моей первоначальной всеобщей схеме образного представления всех собак, собака была сделана так, что у нее не могло быть зубов. Поэтому я спокойно подставляю ей ногу… и на собственной шкуре убеждаюсь, что моя идеальная схема и вещь сама по себе-все же разные вещи. Что же мне делать? Очевидно, одно-поскорее забыть старую схему и построить новую, уточненную, которая будет работать до тех пор, пока я не «заработаю» новый синяк. От синяков тут уж никуда не денешься. Мы, конечно, можем уберечь ребенка от ушибов и шишек, но тем самым мы лишим его возможности научиться самостоятельно ходить. Это приложимо и к мышлению. У кого никогда не бывает ошибок, у того нет и собственных мыслей.
Сколько же раз мне придется производить подобные уточнения? Очевидно, всю жизнь. Во всяком случае, человечество занимается этим на протяжении всей своей истории, и в этом суть прогресса человеческого познания. А прогресс, как известно, бесконечен. Что касается собаки, она только тогда перестанет быть для нас «вещью в себе» и вся без «остатка» станет «вещью для нас», когда мы сумеем не только в воображении, то на » практике воспроизвести ее, со всеми собачьими индивидуальными особенностями, так же, как мы делаем дома, стулья, часы и т. д. Пока же мы «делаем» лишь механические или кибернетические игрушки, да весьма противоречивые биологические теории.
И это относится не только к собаке, но и ко всем «вещам» окружающего нас мира. Колоссальной важности этапом в познании, например,, солнца явилось не только теоретическое, но и практическое создание такой искусственной «модели» нашего светила, как водородная бомба. Этот «пример» хорош тем, что в нем, кстати, наглядно зафиксирован тот «факт», что собственно теоретическое познание (направленность на «истину» саму по себе) является необходимым, но лишь побочным продуктом изначально практической и весьма заинтересованной направленности на что-то иное, чем просто «открытие истины». Во всяком случае, ясно, что водородная бомба была создана отнюдь не для того, чтобы удовлетворить чисто «духовный» интерес группы ученых к истине, к вещи самой по себе.
И вместе с тем, каковы бы ни шли цели осуществления этого грандиозного эксперимента и скольких «синяков» он ни стоил бы человечеству, теоретический, идеальный интерес ученых был удовлетворен. Хотя, повторяем, идеальное явилось здесь лишь необходимым побочным продуктом утилитарно-практического. Почему необходимым? Да потому, что хотя исходной движущей «целевой причиной» всякой человеческой деятельности является отнюдь не поиск всеобщей «истины», но стремление к удовлетворению своих частных, сугубо утилитарных и часто совсем не «идеальных» потребностей, тем не менее, поскольку, эта частная цель поставлена сознательно, т. е. идеально, она для своего реального осуществления необходимо нуждается в идеальных же средствах (схемах). Для того чтобы практически реализоваться, всякая утилитарная потребность должна быть выражена в идеальной форме сознательной цели, понятия, т. е. предварительно должен быть выработан идеальный план (схема) ее осуществления. Но там, где появляется идеальная схема, необходимо встает вопрос и об истине, т. е. необходимо появляется «интерес» к вещи самой по себе, ибо схема для того и создавалась, чтобы практически, не идеально, а реально удовлетворить нашу утилитарную потребность, удовлетворить ее на самом деле. Для этого идеальная схема должна быть истинной, т. е. объективно отражать «вещь в себе», не имеющую, со своей стороны, никакого отношения к нашим потребностям и идеальным схемам их удовлетворения. Теория, согласно которой наше идеальное понятие (определение — предназначение — Bestimmung) тождественно вещи самой по себе, т. е. что рыба создана для того, чтобы нам ее съесть, а мы сами — для того, чтобы благодарить господа бога за рыбу, эта теория вряд ли соответствует действительности, хотя ее защитником был «даже» Гегель!
Итак, чтобы действительно выполнить свое назначение, идеальная схема-план должна стать истинной. Для того чтобы удовлетворить свой субъективный, утилитарный интерес, человек должен заинтересоваться вещью самой по себе, т. е. должен отвлечься от своего собственного интереса! Он необходимо должен «включить» в схему споен произвольной субъективной цели схему вещи самой по себе. В чем же критерий истинности этой последней -схемы? Ведь и ее человек может создать лишь произвольно, лишь «по аналогии» со схемами собственной целесообразной деятельности, лишь в воображении.
Очевидно, единственный путь проверить истинность нашей идеальной схемы-гипотезы — решиться применить ее как истинную. Иначе она навсегда останется лишь вероятной схемой-гипотезой, а наша утилитарная цель — неудовлетворенным вожделением. Для того чтобы выработать истинные представления о приемах плаванья. нужно решиться рискнуть войти в воду. Случается, что при этом люди тонут, и никогда не бывает, чтобы первоначальные, воображаемые приемы оказались абсолютно истинными, не бывает, чтобы «новичок» не нахлебался воды. Но лишь войдя в воду, человек научается плыть более или менее хорошо, пределов здесь нет .
7. Рациональный смысл гегелевского ученая об опосредующей деятельности. Категория „хитрости»
Итак, оказывается, чтобы стать практиком (к чему человек изначально и предназначен, предназначен уже своим происхождением из животного, «вожделеющего» мира), человек необходимо должен искать «истину» стать теоретиком. Но чтобы теория выполнила свое назначение, стала истинной теорией, ей самой необходимо обратиться к практике, ибо она не содержит истины сама в себе. Без практики всякая теория — лишь более или менее утонченный плод воображения. Истина всякой теории в том, что с помощью ее применения мы можем удовлетворить свое «вожделение». Иными словами, истина есть практически осуществленная теория, практически осуществленная, т. е. уже идеально-реальная схема- план-цель. Но в качестве таковой объективная истина является последним, завершающим и единственно ценным для человека продуктом всего длинного, весьма «хитрого» и мучительного процесса… удовлетворения идеально осознанного, но животного в своей основе вожделения!
В самом деле, ведь вожделение — нечто случайное, преходящее. Будучи удовлетворенным, оно исчезает, и на его месте возникают сотни новых, иных вожделений. Истина же, закрепленная в форме практически проверенной всеобщей схемы, остается и может служить средством реализации любых случайных, субъективных целей. Она оказывается чем-то вроде волшебной лампы Алладина. И чем больше развивается человек, чем больше он отделяется от своих животных предков, тем меньше значения он придает своим случайным (животно-биологическим) вожделениям. Истина, идеально-реальное творчество становятся для него самоцелью. А высшим воплощением и средством такого творчества — «жилищем» истины — оказывается для него само идеальное — Разум — единственное, чему стоит поклоняться, к чему следует вообще стремиться. Ведь идеальное, всеобщее (в том числе и такая всеобщая, схема, как «я») оказывается единственно прочным, пребывающим, непреходящим среди непрерывно-изменчивого потока чувственных импульсов. Ц неудивительно, что первобытный человек был склонен обожествлять свою собственную идеальную способность, представляя свое собственное продуктивное воображение, т. е. способность создавать чувственные понятия-схемы вещей-в виде некоего самостоятельного творческого духа, творящего «бытие» из небытия.
Таким образом, «чистый» разум, не обладающий сам по себе никакой объективной истиной и возникший когда-то (в процессе биологической эволюции приспособления высших животных) как продукт жесточайшей и «чисто» утилитарной нужды; разум, явившийся «рабом» и «орудием» утилитарной практики, в конце концов «перехитрил» своего лишь «вожделеющего» господина и сам стал самоцелью. В этом собственно и заключается весь рациональный смысл знаменитого гегелевского учения о «хитрости Разума» и о «господстве и рабстве». Категория «хитрости» как опосредующей деятельности вообще действительно является высшим достижением гегелевской диалектики. Но если очистить эту диалектику от идеалистической, на тождестве бытия и мышления основанной мистификации, то окажется, что Гегель в виде «хитрости» «схватил» сущность «чувственно-сверхчувственной», материально-практической, целесообразной деятельности человека — труда. Труд и только труд породил сознание, в том числе и самосознание. Ведь все наши идеальные всеобщие понятия (в том числе и «я») есть не что иное, как схемы нашей же целесообразной трудовой деятельности. И лишь в процессе развития самого утилитарно-практического труда становится осуществимой «хитрость разума» — то, что животное превращается в человека, и по мере становления его собственно человеком. Человеком с большой буквы, средство превращается в самоцель.
Характерно, что и сам Гегель, там, где он «забывает» о своих исходных идеалистических посылках, обращается не к мистическому разуму вообще, а к живой материальной практике «Средство есть нечто более высокое, чем конечные цели внешней целесообразности; плуг почтеннее, чем непосредственно те наслаждения, которые подготовляются им и служат целями. Орудие сохраняется, между тем как непосредственные наслаждения проходят и забываются. В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен ей». Как видим, Гегель здесь в качестве «средства», которое становится самоцелью, рассматривает уже не просто идеальное «содержательное» понятие, но вполне материальное орудие труда. Тем самым он подчеркивает, что между всеобщей схемой целесообразной деятельности (идеальным понятием) и материальным орудием этой деятельности нет непроходимой пропасти. Вспомним, что Спиноза в качестве «совершенного» всеобщего определения круга дал нам не что иное, как описание «конструкции» и метода действия простейшего циркуля! Не случайно об уровне «сознания» той или иной исторической эпохи судят по применявшимся здесь орудиям труда.
Ленин, выписав это место из логики Гегеля, трижды подчеркивает его и пишет на полях «Зачатки исторического материализма у Гегеля Гегель и исторический-материализм». А в заключении всего этого раздела Ленин констатирует «Замечательно к «идее», как совпадению понятия с объектом, к идее, как истине, Гегель подходит через практическую, целесообразную деятельность человека. Вплотную подход к тому, что практикой своей доказывает человек объективную правильность своих идеи, понятии, знании науки».
Вернемся, однако, к нашему примеру. Ясно, что водородная бомба создавалась отнюдь не для того, чтобы получить «истину», т. е. разработать и подтвердить умозрительные теории о природе солнца. Водородная бомба нужна была для того, чтобы удовлетворить низменные, человеконенавистнические, вполне животные «вожделения» империалистических хищников, их «потребность» истребить неугодную им часть человечества. Но как известно, «конечные» вожделения преходящи, они исчезнут вместе с теми социальными причинами, которые их обусловили, вместе с самими их носителями. Несомненно, будет время, когда «потребность» в истреблении людей исчезнет. А истина, добытая столь дорогой ценой, останется. Ведь в отличие от преходящих «потребностей», она — нечто всеобщее, вечное, если угодно. Это не значит, конечно, что это — абсолютная истина. Она всегда будет нуждаться в непрерывном уточнении. Но вместе с тем она — объективна, ибо в ней есть нечто твердое, не подлежащее уже никакому сомнению, а именно — то, что оказалось возможным реализовать практически. В качестве таковой истина может обслуживать самые противоположные «потребности», обусловленные материальными и социальными условиями развития человеческого общества. И воспроизведенное в мрачную эпоху империалистического хищничества и в целях этого хищничества искусственное солнце может и будет служить не средством смерти и уничтожения, но источником света, тепла и радости. Истина, собственно, и есть всеобщий и непреходящий итоговый продукт человеческого развития. Только ее свет и окупает все те бесчисленные синяки и ушибы, полученные на темной и скользкой дороге, ведущей ki ее постижению. Все эти полученные в темноте увечья окупаются в конечном счете. Без них не было бы и света.
Здесь следует заметить, что проблема «увечий» волновала почти всех больших писателей-гуманистов. Но особенно радикальную форму она приняла в творчестве Ф. М. Достоевского, поставившего наболевший вопрос «Для чего познавать… когда это столького стоит?». — Ведь что спрашивает Достоевский? «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай представь, что это ты, сам, «возводишь здание судьбы человеческой, с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице… согласился ли бы ты быть архитектором, на этих условиях, скажи и не лги».
Достоевский, собственно, и не спрашивает. Он отвечает «Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возратить обратно».
Здесь нет места подробно отвечать на вопросы Достоевского. Но мы вправе, в свою очередь, предложить автору «Братьев Карамазовых» вопрос если отказаться от «билета», куда идти? Может быть к ближайшим «родственникам» человека? Уж у них-то действительно «естественное» первобытно-райское блаженство. Они «не сеют, не жнут» и не собираются карабкаться по темным и скользким дорогам к свету какой-то «гармонии». А главное, они и не подозревают о ее «возможности», потому их и не волнует ее «цена». Они просто пожирают друг друга, в том числе и своих детенышей, если последние зазеваются.
Что же касается «цены», которая «не по карману нашему», не стоит прибедняться билет уже оплачен! Ведь для того чтобы человек перестал быть лишь вожделеющим животным, для того чтобы мог появиться Достоевский и его читатели, для всего этого понадобился тяжелый труд многочисленных поколений. При этом не следует забывать, что «техника безопасности» никогда, не дается заранее. Она создавалась и создается в процессе самого творческого труда. Да и вообще, рассуждая о возвышенных принципах «человечности», о том, что все это, якобы, слишком дорого стоит, не следует забывать, что человек был лишь животным, а становится он — человеком. Следовательно, «теряет» он лишь свою животность. В этом и состоит вся «плата за вход». Что же касается заявления «Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию», — это подтасовка. Ибо все, что делает человек — делает он не для дяди, а для себя самого. Утверждать иное — просто ханжество.
Но уж такова природа самого человеческого «дела», что человек ничего не может сделать для себя — не делая для других, и наоборот. Опредмечивая (творя) самого себя, человек тем самым опредмечивает и направляет «творчество» других, окружающих его людей, в том числе и будущих. Творя зло другим, он творит его самому себе, своему собственному, личному делу, так как всякое личное дело, по самой природе всякого дела, есть дело общественное, лишь в обществе и через общества вообще получающее какой-либо смысл. Лишь любящего любят, лишь ищущий может найти, и притом, лишь то, что ищет. Это все банальные истины. «По трудам их, воздается им».
Итак, всякое идеальное предметное понятие есть лишь схема нашей же целесообразной практической деятельности; и оно способно отражать вне и независимо от нас существующую вещь, т. е. стать истинным понятием, лишь поскольку (и насколько) оно реализуется в самой практической деятельности. Открытый (а точнее — «построенный») нами закон природы есть объективный закон самой этой природы, поскольку созданный на основе этого закона самолет — летит. И если он летит, но не совсем так, как мы заранее предполагали, мы будем теоретически уточнять первоначальную схему закона, а затем практически проверять его путем постройки нового самолета. Процесс этот бесконечен, но он — единственный путь достижения истины. «Истина есть процесс. От субъективной идеи человек идет к объективной истине через «практику» (и технику)» .
Таково решение проблемы, выявленной Кантом в процессе «гносеологического копательства».
, Кант занимался действительно «глубинным» копа-тельством. Но сам он не смог вразумительно ответить на им же «выкопанный» вопрос, хотя в его руках оказались все нити, ведущие к единственно верному ответу. Кант вообще не стал «популяризировать» ни саму проблему, ни тем более, ответ, которого и сам толком не понял, ибо в противном случае ему пришлось бы перечеркнуть все свои религиозные фетиши, все свои собственные метафизические исходные посылки. Это означало бы для него перестать быть теоретиком, критически-созерцательным, благонамеренным просветителем, т. е. перестать быть Кантом! Кант не захотел вразумительно отвечать на свой же вопрос, а потому и остался агностиком -полуидеалистом, полуматериалистом; в общем антиномистом, человеком «трех-четвертей-головы». Однако, что Кант имел представление об истинном решении своей проблемы, на это указывает хотя бы то, что согласно ему «вещь в себе» является неразрешимой антиномией лишь для теоретического разума, практический же «разум» изначально имеет дело с вещами самими по себе. Но и здесь, как мы видим. Кант цепляется за свои метафизические фетиши. Во-первых, даже практическая деятельность оказывается у него… разумом — «практическим разумом». Во-вторых, Кант не нашел ничего лучшего, как рассмотреть в своем «Практическом разуме» лишь моральную сторону дела, да и то лишь с сугубо формальной точки зрения. В этом отношении Гегель, несмотря на весь свой идеализм, намного выше Канта, во всяком случае «содержательнее» его. В противоположность Канту, Гегель начал идеалистически — не с практики, но с морали. Однако, рассматривая «мораль», Гегель пришел к необходимости конкретного анализа государства и права, к анализу «гражданского общества», т. е. общественно-исторической практики, а не наоборот, как Кант.
Предельно ясный и четкий ответ на кантовский вопрос впервые дал лишь Маркс в своем втором тезисе о Фейербахе «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен человек, доказать истинность, т. е. действительность и мощь посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» .
Тем самым Маркс перевернул все кантонские исходные (да и конечные!) просветительские посылки; он впервые ясно и четко показал, что сами по себе они — фикции, способные играть лишь «эвристическую» роль. Более того, тем самым Маркс вывернул наизнанку и всю гегелевскую диалектику, показав ее «поверхностность» и спустив ее с неба духа на твердую землю реальных практических дел. Именно против гегельянцев, да и всего немецкого идеализма в целом, направлены слова Маркса «Философия и изучение действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь».
8. Рационалист или иррационалист?
В заключение вернемся к спору, разгоревшемуся в современной буржуазной философии — вокруг кантовского наследства кто же был Кант — рационалист или иррационалист?
Казалось бы, на вопрос ответить нетрудно. Признавал Кант иррациональное? Да, признавал. Следовательно… Но в действительности дело обстоит не так просто.
Понятие ratio так же древне, как и irratio, и чтобы установить это, не нужно специальных изысканий. Пока существует разум, налицо и неразумное — его необходимая противоположность, его предельное понятие, в чем бы оно не выражалось. Будет ли оно выступать как относительность всякой объективной истины, как никогда до конца не сводимое к рациональным определениям бесконечное качественное и количественно, интенсивное и экстенсивное многообразие эмпирических явлений (свести все это многообразие в законченную рациональную систему — идеал науки, достижение которого явилось бы концом ее), или как случайность, которая есть форма проявления самой необходимости, или, наконец, «подсознательное», инстинктивное, интуитивное, в противоположность сознательным мотивам и т. д. и т. д. — объявлять все это продуктом «отчужденной» капиталистической системы производства , по крайней мере, несерьезно.
Конечно, в истории философии были попытки объявить иррациональное лишь пустым фантомом, видимостью. Но уже Спиноза понял, что всякое определение есть отрицание, т. е. определение через «свое-другое» — противоположность. И если мы хотим понимать под ratio нечто содержательное, определенное — приходится признать и irratio как необходимый коррелят первого, как условие, при котором ratio получает как само право на существование, так и поле своей деятельности. (У самого Спинозы, как известно, противоположностью и «границей» мышления является атрибут протяжения.) Нельзя «снять» (например, объявить «неистинным») нечто, не «сняв» тем самым и его противоположности.
Все это хорошо осознавал Гегель. Тем не менее он, однако, в интересах обоснования своего абсолютного идеализма, а именно — тождества бытия и мышления, — попытался «снять», объявив пустой видимостью, все иррациональное, т. е. все, что несводимо к чистому мышлению. В качестве таковой «иррациональной иллюзии» Гегель рассматривал прежде всего бытие. Но объявив видимостью irratio он, в силу собственной диалектики, вынужден был поставить крест и на самом ratio. И Гегель пошел на это! Как известно, не кто иной, как Гегель третировал рационализм как пошлую, пустую, в основе своей непреодолимо противоречивую, изначально зараженную субъект-объектным отношением «рассудочность». Таким образом, обе необходимо дополнявшие друг друга противоположности (ratio и irratio) с его точки зрения оказались фикциями. Но что же тогда не фикция?
Гегель нашел выход из положения. Он изобрел понятие «спекулятивного мышления» — бесконечного надиндивидуального разума, т. е. абсолютного духа, духа, в котором уже не было ни субъекта, ни объекта, ни рационального, ни иррационального. Только таким путем он смог изгнать иррациональное из своей системы. Однако, будучи изгнанным в дверь, иррациональное вернулось в его систему через окно, потому что, лишившись своей противоположности, «спекулятивный разум» стал действительно «абсолютным», т. е. абсолютно пустым, неопределенным и принципиально никакими человеческими средствами неопределимым понятием; лишившись всех «иррациональных остатков», этот «разум» сам превратился в нечто поистине мистическое. Впрочем, вот что неоднократно вынужден был заявлять сам Гегель «Относительно спекулятивного мышления мы должны еще заметить, что следует понимать под этим выражением то же самое, что раньше называлось мистикой». И далее «Все разумное мы, следовательно, должны вместе с тем называть мистическим».
Абсолютная мистичность гегелевского понятия спекулятивного мышления проявилась прежде всего в том, что оно остается в его системе лишь в качестве пустого метафизического принципа, означающего, в конечном счете, не что иное, как тождество бытия и мышления. Когда же доходит до дела, этот бесконечный абсолютный дух оборачивается системой конечных, односторонних определений того же самого «пошлого» рассудка, который Гегель так третирует. Везде, где дело идет не о метафизической фразеологии, а о реальном мышлении реального объекта, самому Гегелю не остается ничего иного, как со спокойной совестью пользоваться средствами по существу своему определенного и определяющего, т. е. ограниченного и ограничивающего и только в этом смысле конечного, субъективного разума. Разоблачению Гегеля именно в этом весьма существенном пункте Маркс посвятил свою работу «Критика гегелевской диалектики и гегелевской философии вообще».
Мы обратили здесь внимание на приключения irratio в гегелевской абсолютно «рациональной» системе потому, что эта система явилась классическим выражением тенденции «снять» все «иррациональные остатки», объявить их принципиально иллюзорными и до конца растворить в логических формах. Естественно, эта тенденция в той или иной степени характеризует весь буржуазный рационализм с его принципами «предустановленной гармонии», надиндивидуального «я» и т. д. Здесь нам важно отметить то, что все попытки построения метафизических систем, осуществляющих эту тенденцию, осознанно или неосознанно исходили из принципа тождества бытия и мышления. Кант хорошо понял это. Он всегда выступал против принципа тождества и поэтому никак не укладывается в рамки историко-философского понятия «рационализм».
Кант не был «рационалистом». Но это отнюдь не означает, что он был «иррационалист». Иррационализм как философское направление сформировался в конце XIX столетия (поздний Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше, Кьеркегор, Бергсон и т. д.). явившись своеобразной формой самоотрицания буржуазной культуры в результате панического страха современного буржуа перед логикой развития своего же собственного «Разума».
Здесь нет места рассматривать истоки и смысл иррационалистических построений. Укажем лишь на то, что радикальным отличием всех иррационалистических школ от классических философских систем является их ярко выраженная жесткая реакция против какой бы ;то ни было дискурсивности, понятийности, против научных логических форм познания вообще. Появление иррационализма знаменует начало окончательного разрыва современной буржуазной мысли с классическим философским наследием, что выражается в полном отказе от какой бы то ни было научности, в попытках противопоставить «подсознательное», «интуицию» как некие мистические способности — интеллекту, поставить их над интеллектом, наукой.
Все это никак несовместимо с позицией Канта, который всегда был уверен в неограниченных возможностях и мощи человеческого разума и подкреплял эту уверенность собственными великими естественнонаучными открытиями. Да, Кант не был «рационалистом» в узком историко-философском понимании этого термина. Но тем » более он не был «иррационалистом». Кант был человеком «трех-четвертей-головы». И именно поэтому он по крайней мере на «одну четверть головы» оказался выше всех представителей буржуазной философии, как классической, так и современной.
«