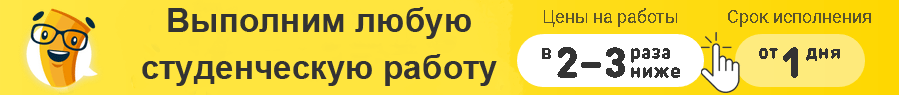Религиозная вера и рациональность
Религиозная вера и рациональность
Религиозная вера и рациональность
А.В.Кураев, В.И.Кураев
Гносеологический аспект
1. Тема взаимоотношения религиозной веры и рациональности остается одной из центральных в столь активно обсуждаемой ныне проблеме места и возможностей рациональности в современной культуре. В этом смысле можно сказать, что эта тема является современной и остроактуальной. Вместе с тем несомненно и то, что она относится к числу вечных, традиционных тем философии. Правда, выступала она, да чаще всего и сегодня еще выступает, в других терминологических облачениях взаимоотношения знания подлинного и мнимого, мифа и логоса, мистики и знания, религии и науки, рационального и иррационального и т.п. К тому же и сами понятия рациональности и веры далеко не однозначны. Один из наиболее известных исследователей проблемы рациональности германский философ Ганс Ленг выделяет ни много ни мало 21 значение понятия рациональности (есть веские основания полагать, что не менее разнообразно и употребление термина вера). Поэтому представляется разумным прежде, чем приступить к изложению существа дела, разумеется, в самом общем и предварительном порядке, определиться терминологически. Начнем с понятия рациональность». Под рациональностью мы будет понимать так или иначе стандартизируемую и нормализуемую посредством формулирования и использования относительно устойчивых и разделяемых тем или иным сообществом людей, например, ученых, совокупность правил, норм и стандартов деятельности разума как теоретического, например, в сфере познания, так и практического. В зависимости от того, трактуется ли эта совокупность норм и правил как некая всеобщая абстрактная внекультурная и внеисторическая характеристика, либо, напротив, подчеркивается социальноисторическая культурная детерминированность, а следовательно, и относительность норм, стандартов и правил, мы имеем дело либо с так называемым классическим европейским рационализмом, сформировавшимся в Новое время, либо с различными моделями неклассического рационализма или неорационализма. В этой статье мы будем иметь дело в основном с классически понимаемой рациональностью, в особенности с научной рациональностью как ее высшим достижением, хотя, разумеется, будут учтены и некоторые подходы и идеи, сформулированные в ходе попыток переосмысления и переобоснования классического рационализма1. Теперь несколько предваряющих замечаний о понятии религиозной веры. Первое. Мы сосредоточим свое внимание на выяс-____________________ 1 Более подробно об исторических судьбах рационализма, о специфике и взаимных отличиях классического и неклассического рационализма см. Аверинцев С.С. Две исторические формы европейского рационализма // Вопр. философии. 1990. N 2; Автономова Н.С. В поисках новой рациональности // Вопр. философии. 1981. N 3;
Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе XX в. // Вопр. философии. 1991. N 6.
75 нении сути религиозной веры как гносеологического феномена. Все остальные аспекты этой проблемы, а именно догматическибогословские, психологические, хотя и будут частично затрагиваться, но неизбежно бегло и неполно. Второе.
Развиваемое в статье понимание религиозной веры как гносеологического феномена в ряде отношений отлично от традиционного ее истолкования, одновременно оно пытается удержать все то позитивное, что в нем содержалось.
Исторически сложилось и закрепилось (оно и сейчас является наиболее распространенным) понимание религиозной веры как особого типа гипотетического знания. Суть веры вообще и религиозной веры в особенности состоит, утверждает, например В.С.Соловьев, «в признании чего-либо истинным с такой решительностью, которая превосходит силу внешних фактических и формально-логических доказательств»2. Иными словами, предполагается, что религиозная вера есть такое своеобразное духовное состояние, в котором мы согласны признавать, считать достоверным, утверждать как истину нечто такое, что само по себе не очевидно, не может быть удостоверено, для чего нельзя привести убедительных оснований, помимо ссылки на какие-либо тексты или свидетельства, авторитет которых столь высок, что они должны просто безусловно быть приняты (Священное писание, высказывания основателей религии и т.п.). Опираясь на традиции патристической мысли, писания и высказывания ряда православных просветителей, труды некоторых выдающихся русских религиозных философов, православных мыслителей XX столетия, мы стремимся показать, что религиозная вера не есть вера-предположение или вера-авторитет, а особый тип достоверного знания, опирающийся на живой религиозный опыт человека3.
Нередко считается, что религиозная вера — неотъемлемый компонент религии, и что везде, где мы имеем дело с религией, она обязательно присутствует. На самом деле это далеко не так.
Несмотря на то, что «вера» считается синонимом религии, только христианство начинает характеризовать себя словом «вера».
Язычество не верит в богов и духов, а стремится разобраться в их мире, чтобы подчинить духовный мир себе и своим интересам, полагаясь при этом на магическую технику своих ритуалов и заклинаний. Даже в позднеантичное время религиозное чувство римлян, как писал А.Ф.Лосев, «очень осторожное, малодоверчивое. Римлянин не столько верит, сколько не доверяет. Он держится подальше от богов. Настроение и душевное состояние вообще играли малозначительную роль в ____________________ 2 Соловьев В.С. Вера // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Спб., 1896. Т. 6. С. 98.
3 В первую очередь здесь следует назвать труды замечательного русского религиозного мыслителя С.Л.Франка — «Предмет знания», «Непостижимое», «Свет во тьме», «Реальность и человек». В последующем мы будем неоднократно ссылаться на выводы и наблюдения С.Л.Франка. Там же будут даны и библиографические данные об этих трудах.
76 этой религии. Надо было уметь выполнить форму культа, надо было знать, какому богу, когда и как молиться — и бог не мог не оказать помощи, он юридически был обязан помогать. Бог обязан действовать, если соблюдены все правила молитвы4. На Востоке вера также не отождествлялась с сущностью религиозного пути. Последний здесь предпочитают осмыслять как «гнозис», знание. Знание высших законов мироздания, знание тайны спасения — вот что предлагают своим последователям религиозные системы Востока — от даосизма до гностицизма. Ветхий Завет сближает суть религиозной жизни с «законом». «Закон» и «Заповедь» — категории, которые вспоминает иудей, размышляя о своем религиозном своеобразии5.
Ислам в основе своей чужд мистических взлетов и падений окружающих его религий, и весь упор делает на «верность», на преданность Пророку и его учению.
И лишь христианин (или человек, выросший в сфере христианского влияния на культуру) скажет не «я умею», «я знаю», «я выполняю» или «я слушаюсь», но «я верю, верую». 2. Именно таким образом христианин устанавливает свои отношения с истиной. Что это значит, мы постараемся показать дальше, пока же отметим, что за этим стоит совершенно иное отношение между субъектом и объектом познания, чем то, которое фиксируется классическим рационализмом.
Наиболее характерные черты гносеологии классического рационализма обусловлены особенностями научной практики того времени, а именно — формирующегося экспериментального естествознания. Осмысление этих особенностей опиралось на некоторые общефилософские идеи о природе, человеке и сущности познания. В частности, предполагалось, что в самом фундаменте познавательного отношения лежит некая соразмерность, однотипность природы и познающего мышления, их глубинное родство, что делает возможным не только само познание, но и обеспечивает достоверность его результатов. Субъектом же познания представал не живой конкретный человек со всеми его особенностями и склонностями, а скорее некий абсолютный разум. Приписываемые ему механизмы восприятия и мышления, естественно, толковались как абсолютные, всеобщие и универсальные, а само познавательное отношение субъекта к объекту трактовалось созерцательно. Декарт, например, уподобляет познание лучам света как солнцу все равно, что освещают его лучи, так и разуму равно доступны все области ____________________ 4 Лосев А.Ф. Эллинско-римская эстетика I — II веков.
М., 1979. С. 35-37.
5 В Пятикнижии слова «вера» вообще нет, а впервые в Ветхом Завете оно появляется только в седьмой книге — кн. Судей (9, 15-16). Впрочем, в русском переводе этого слова нет и здесь. Дело в том, что в еврейском языке вера — «аман» (отсюда аминь) — означает скорее твердость, уверенность. На греческий язык это слово перевели двумя как «пистис» и «алетейя». Отсюда в русский перевод вошли два ряда библейских текстов, одни из которых говорят о вере, другие — об истине. В каждом случае половина смысла, следовательно, выпадает.
77 бытия6. В общем, это чисто механический образ. И неудачный ибо солнце освещает только поверхность, не в силах проникнуть в затененные области. И хотя Декарт еще до сомнения выдал аванс доверия разуму, он не ответил на основной вопрос вся ли вселенная может быть выражена mode mathematico? И если человеческий разум — достаточный инструмент для познания внешнего мира, достаточно ли он хорош для познания самого себя и мира человека? Есть ли в мире и человеке затенения или все ясно и прозрачно? Как мы знаем, последующий опыт показал, что посредством ясного и определенного мышления достигается лишь мысленная, отвлеченная достоверность, но не экзистенциальная надежность.
В Декартовом сравнении нет ничего нового, специфически «рационалистического» — познание давно уподоблялось «свету естественного разума». Новизна проистекала из того, что оно было встроено в контекст принципиально нового — по сравнению с античностью и средневековьем — понимания взаимоотношения человека и природы и вытекающего отсюда нового понимания роли знания в человеческой жизнедеятельности. Сформировалось механистическое миропонимание, изображавшее мир как огромный конгломерат механически взаимодействующих тел и превращавшее в ненужный хлам все то, что связано со смыслом и пониманием. Вместо этого человеку вменялось в обязанность уловить, зафиксировать каузальные, причинно-следственные взаимоотношения между вещами, постараться поставить их себе на службу; рациональность, и в первую очередь научная рациональность, превращалась в технологию овладения природой, подчинения ее нуждам и запросам человека7. Эта преобразующая, конструктивно-манипулирующая деятельность объявлялась и критерием истины истинно не то, что так или иначе дано нам, а то, что сделано нами. Лишь то, что я создал своими руками, и процесс конструирования чего я могу контролировать, может обладать качествами истины и подлинной достоверности. Фаустовский дух прогоняет Логос «Что надо знать, то можно взять руками»8. Удивительно ли, что в мире конструируемости одной из центральных тем философских рефлексий стало осмысление нарастающего чувства бессмысленности человеческого бытия. Технологическая мысль разрушает самое главное в человеке — твердую уверенность в своей нужности и необходимости, в своей уникальности и незаменимости. Ведь душа человека не технологична, не «конструктивна», отсюда и «практические рекомендации» либо окончательно и навсегда отказаться от этого понятия, либо попытаться технологизировать ее; особенно активные усилия к этому прилагаются в наши дни.
____________________ 6 См. Декарт Р. Правила для руководства ума.
Правило 1.
7 Более подробно см. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1986.
8 Гете И.-В. Фауст. Соч. в 8 т. М., 1976. Т. 2.
С. 418. Однако сам Гете не сочувствует этому духу тотальной конструируемости.
78
Учитывая это, необходимо решительно встать на защиту человека, ибо не все позволительно делать с его душой и самим человеком. Для этого, конечно, надо смириться с тем, что не все в мире технологично-конструктивно, что есть такие области и сферы, где кончаются «проблемы» и начинаются тайны. Для такого смирения нужно мужество, мужество признать и принять, что не все в мире до конца познаваемо, что не все разрешимо и устранимо, что не все зависит от нас. Например, наша смертность, наша подверженность болезням и страданиям. Поэтому и культурный прогресс, по замечанию В.Соловьева, нельзя ставить слишком высоко.
Ж.Маритен как-то правильно подметил «Ложна всякая метафизика, если она измеряется не тайной того, что есть, а состоянием позитивной науки в тот или иной момент»9. Человек нуждается не в еще более полном овладении природой, а в гармонии с ней, для чего он должен духовно и аксиологически «повзрослеть». В его духовном мире должно найтись место таким ценностям, которые не просто удовлетворяли бы какие-то его потребности, но которым он был бы готов служить сам, готов был бы любить и оберегать их. И это касается вещей не только «возвышенных», но в большинстве случаев и самых обыденных. Возьмем, например, хлеб. Кажется очевидным и естественным, что он нужен только для того, чтобы удовлетворять какие-то потребности людей. Но Сент-Экзюпери как подлинный художник, метафизик и теолог сумел понять, что не только в Писании хлеб может быть больше чем смертная пища смертных людей «люди, — пишет Экзюпери, — приходят домой совершенно разбитые и кормятся хлебом. Но не в этом ведь для человека главная суть вещей в их сердце их кормит не то, что они получают от хлеба, а то, что они сами хлебу дают «10. Понятно, что такие отношения человека с вещью или ценностью никак не подобны обладанию, господству, никак не вписываются они в рамки бегло очерченной выше схемы взаимоотношений между субъектом и объектом познания, предложенной классическим рационализмом. Ее ограниченность особенно четко обнаруживается, когда мы обращаемся к опыту религиозного познания.
Как отмечалось в гносеологии классического рационализма, реальность предстает как нечто пассивное. Она имеет свои секреты (но не тайны!), и к этим хитроумным секретам человек должен подобрать не менее хитроумные отмычки. Исследователь, начиная с Галилея, уже не ученик в храме природы, а судья и палач. Судья он потому, что именно он теперь решает, что есть и чего нет, а чего не может быть никогда. Границы реальности устанавливаются человеком, сама реальность тождественна с тем, что считает таковым положительная наука, и она есть только это. Палачом же по отношению к природе человек оказывается (именно в методологической, а не экологической перспективе), потому, что, стремясь обнаружить интересующее его свойство объекта, он не останавливается ____________________ 9 Маритен Ж. Метафизика и мистика // Путь. 1926.
N 2. С. 56.
10 Сент-Экзюпери А. Сочинения. М., 1986. С. 193.
79 перед его разрушением. Галилей сравнивал эксперимент с «испанским сапогом», в который человек зажимает природу, чтобы заставить ее дать нужный ему ответ.
В сфере духовного познания манипулирующая активность субъекта сменяется на самораскрывающуюся активность объекта. И чем выше онтологический уровень предмета познания, тем более скован волюнтаризм исследователя, тем больше успех познавания зависит от согласия «объекта» раскрыть себя. Почти безгранична активность познающего в мире физическом.
Но уже познание мира живого накладывает определенные ограничения. И совсем уж не «все позволено» в изучении человеческого мира. Здесь мы можем лишь терпеливо ждать, пока другой человек сам раскроется нам, что возможно в любом случае лишь в ответ на подтверждение нашей неагрессивности. Мы не можем спровоцировать реальность на открытие для нас ее высших духовных свойств. Чувство гармонии и красоты даже неживая природа может лишь сама подарить нам, если мы готовы этот дар принять.
Тем более акт религиозного познания выступает, по сути, как акт откровения. «Откровение, — поясняет Семен Франк, — есть всюду, где что-либо сущее (очевидно, живое и обладающее сознанием) само, своей собственной активностью, как бы по своей инициативе, открывает себя другому через воздействие на него… В составе нашей жизни встречаются содержания или моменты, которые сознаются не как наши собственные порождения, а как нечто, выступающее, иногда бурно вторгающееся в наши глубины извне, из какой-то иной, чем мы сами сферы бытия»11.
С откровением как способом познания духовной реальности мы имеем дело не только тогда, когда размышляем о религиозном познании, но и когда говорим об общении с другими людьми, с восприятием произведений искусства. Эстетическое восприятие вообще во многом сходно с религиозным. Как и в акте религиозного восприятия, эстетически переживаемая действительность не пассивна, и в «момент эстетического опыта мы перестаем чувствовать себя одинокими — мы вступаем во внешней реальности в общение с чем-то родным нам. Внешнее перестает быть частью холодного, равнодушного объективного мира, и мы ощущаем его сродство с нашим внутренним существом. Мы испытываем воздействие объекта на нас. Но одновременно мы сознаем эту, воспринимаемую в эстетическом опыте реальность как безличную, лишенную личностного центра самосознания»12. В этом отличие религиозного восприятия от эстетического.
____________________ 11 Франк С.Л. Реальность и человек. Париж, 1956.
С. 135, 137.
12 Франк С.Л. Реальность и человек. С. 117. Однако заметим, что одно из самых ярких определений Откровения (по крайней мере эстетического) дал… Винни-Пух. В ответ на предложение Пятачка сочинить песенку, Винни-Пух сказал про себя «но это не так просто. Ведь поэзия — это не такая вещь, которую вы находите, это вещь, которая находит вас. И
80
«Действительность Божества»13 не есть вывод из религиозного ощущения, а содержание этого ощущения, то самое, что ощущается»14.
Наконец, самое главное — религиозная реальность открывается как реальность персоналистическая. Не безликое и безразличное Нечто, не онтологически-самопереполненное Бытие, но живая Личность обращена к человеку в опыте Богообщения. Это означает, что сама «методика» религиозного познания должна строиться по принципам диалогичности. Как в любом подлинном диалоге с личностью мы должны, во-первых, признать автономность «объекта» нашего обращения, его неуничтожимую и неотменимую, несводимую инаковость. Иными словами, мы должны отказаться от волюнтаристического проектирования, должны признать, что смысл бытия «другого» и смысл нашей с ним встречи мы изначально не можем установить своими проектами. Во-вторых, мы должны быть готовы услышать от другого в ходе его вы-говаривания нечто, не входящее в наши слишком эгоцентрические планы. В-третьих, мы должны научиться воспринимать участника диалога в качестве личности, т.е. в качестве существа, наделенного не менее глубоким онтологическим статусом, чем я сам (это означает, что как самих себя мы не воспринимаем в качестве просто вещи среди других вещей, в качестве лишь одного из множественных фактов бытия, так и другого в событии диалога мы должны суметь отличить в потоке «вещных восприятий» и выделить его из нумерической анонимности). Далее, сам диалог может начаться лишь с «окликания», с именования собеседника тем именем, которое приложимо лишь к нему (что особенно важно в религиозной жизни, если мы хотим избежать ошибки Фауста.
Фауст «Как ты зовешься?» — Мефистофель «Мелочный вопрос…»).
Если эти принципы готовности к диалогу будут соблюдены и при нашем обращении к Божественной Личности, то у нас есть шанс не только быть услышанными, но и получить ответное «сердечное извещение».
Это означает, далее, что Бог — это реальность принципиально называемая и выразимая лишь в «звательном» падеже. Первично «Ты», вторично «Он». «Встречаясь с любимым человеком, мы не формулируем суждения «Он существует», в крайнем случае мы восклицаем «Ты жив!»15.
Подлинная формула веры — «Верую в Тебя, мое единственное прибежище!».
____________________________________________________________ все, что вы можете сделать, это пойти туда, где вас могут найти».
13 Под этим имеется в виду не только само существование Бога, но и Его качественно-сущностные характеристики — Любовь, Разум, Терпение и Сила… Ибо Бог не просто любит, он есть Любовь.
14 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С.
Собр. соч. М., 1988. Т. 1. С. 251.
15 Франк С.Л. С нами Бог. Париж, 1964. С. 97. Ср. восклицание Марины Цветаевой «Бог! Ты не умер — значит я жива!»
81
И еще один вывод из персоналистично-диалогического характера акта религиозного познания. В силу самой специфики отношений Бога и человека в этой сфере вообще не соблюдается классическая трихотомия новоевропейского рационализма «объект — субъект — средство познания». В классической научной парадигме субъект познания, с помощью инструментов познания (к числу этих инструментов относятся не только «ускорители», но и сам язык описания и даже телесность познающего) поворачивает объект к себе интересующей его стороной. В акте познания, таким образом, меняется внешний по отношению к субъекту предмет, сам же субъект не претерпевает решительных изменений.
В области религиозной это в принципе не так. «Объект» познания здесь Бог. Но в своей трансцендентности Он не может быть предметом ни опыта, ни мысли, ни эксперимента. Поэтому лишь в той мере, в какой из своей трансцендентности Он входит внутрь человеческого мира, в субъект, Бог становится доступен познающему усилию. «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17, 21), — на языке гносеологии это означает, что объект исследования внутриположен субъекту и, соответственно, средства исследования также не могут быть внешними по отношению к самому человеку. Налицо явное слияние поля действий объекта, субъекта и средств познания. Это значит, что в конце концов сам человек в своей целостности здесь является «онтологическим инструментом», средством онтологического познания. Лишь себя субъект здесь может использовать в качестве средства познания, чтобы дать в себе же место для откровения Другого. Лишь изменяя себя самого, человек обретает новый опыт.
Но это, в свою очередь, означает, что — опять же в отличие от классической парадигмы — человек в его субъективности в принципе не исключим здесь из акта познания, неотмыслим.
Парадигма рационализма требует сведения к минимуму «субъективности» в познании, за счет разрастания «объективности». Человек и человечность — досадные помехи на пути к чистой «объективности», помехи в работе чистого мыслительного аппарата. Все «личностное», «субъективное», собственно человеческое должно быть элиминировано. Любой результат исследования — если он «объективен» — должен быть повторяем, воспроизводим любым другим профессионально обученным исследователем. Национальность и вера, семейные отношения и личные черты, все особенности человека не подлежат здесь учету. Сам субъект исследования должен быть заменяем любым другим (исследователем того же класса). Возможно ли это в религиозном познании? Духовный взор человека по устройству схож со взглядом лягушки как та видит лишь движущиеся предметы (или же неподвижные — в случае, если движется она сама), так и духовный взор человека научается различать добро и зло, невидимые, но важные структуры мироздания, лишь приходя в движение, лишь решаясь на поступок.
Поэтому понятно, что слова блаж. Диадоха о том, что познание, которое по сути своей есть любовь, «не попускает мысли нашей расшириться в порождении божественных созерцаний, если
82 сначала не воспримем в любовь неправедно гневающихся на нас»16, — эти слова совершенно уместны и органичны в богословии, но их в принципе невозможно отнести к процессам научного познания физического мира. «Кто истинно молится — тот истинный богослов», — говорит традиция Православного Богопознания. В науке молитвенной практике, очевидно, структурно будет соответствовать эксперимент. Но если в Евангелии Христос предупреждает идущего на молитву, что прежде молитвы ему стоит вернуться и примириться с тем, с кем он в ссоре (МФ. 5, 23-24), то, очевидно, аналогичный совет, обращенный к физикам, идущим в лабораторию на свой эксперимент, не будет воспринят как нечто естественное. 3. В науке и в духовном познании задействованы в принципе разные структуры человеческого существа. В науке человек действует как чистая интеллигенция, чистый ум. Совесть, вера, любовь, порядочность — все это подмога в работе ума ученого. Но в духовной жизни, напротив, «ум — это только рабочая сила у сердца»17, как говорил замечательный московский духовник и старец начала века о. Алексей Мечев. В духовно-нравственной сфере человек действует как личность, т.е. воедино собранная целокупность и внутренняя стяженность своего бытия. Личность и ее действия, с одной стороны, несводимы к внешнему контексту «мира», с другой — абсолютно незаменимы в нем. В моем действовании как личности меня никто не может заменить, ибо иначе это будет не мой поступок. Поэтому «познавательный акт как мой поступок, — поясняет М.Бахтин, — включается в единство моей ответственности. Не из теоретической транскрипции, а из акта-поступка есть выход в его смысловое содержание»18.
Соответственно, «понять предмет — значит понять мое долженствование по отношению к нему, что предполагает не отвлеченное от себя, а мою ответственную участность»19. В противоположность научному познанию, где я должен быть лишь отпечатком реальности, и этот отпечаток должен быть тождествен аналогичному воздействию того же «объекта» на любого другого человека, в противоположность научному познанию, где я — лишь пластически-податливый материал и потому «импрессионистически-безответствен» — нравственный поступок исходит из «моего не-алиби в бытии»20. Та активность научного субъекта, о которой мы говорили во второй части, — это ведь не моя активность, не моя как человека. Это — агрессия класса, фаустовского человечества, где я — «солдат великой всемирной армии труда». Но потому-то этот внешний, имперсональный активизм имеет своей оборотной стороной состояние расслабленности и безответственной неучастности моего «внутреннего человека».
____________________ 16 Цит. по Фудель С.И. Об о. Павле Флоренском.
Париж, 1988. С. 48.
17 О. Алексей Мечев. Воспоминания. Париж, 1989. С.18.
18 Бахтин М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 91.
19 Там же. С. 95.
20 Там же. С. 112.
83
В сфере «практического разума», как гласит категорический императив Канта, чтобы понять свой долг, в пределе я должен исходить из того, что вся история вселенной и моя собственная жизнь начинаются лишь с этого самого момента моего выбора за моей спиной нет ничего, что силой факта и по законам детерминизма принуждало бы меня к недолжному. Ни прежде бывшее, ни сосуществующее со мною не может спровоцировать меня на недолжное действие. «Не-алиби в бытии».
Это значит, что я в принципе не заменим ничем в мире, и ни с чем не тождествен (как субъект нравственного выбора). Мне открывается «моя единственность как нудительное несовпадение ни с чем, что не есть я. Признание долженствующей единственности. Это означает — войти в бытие там, где оно не равно самому себе». Именно поэтому Бахтин определяет веру как «ответственно осознанное движение сознания»21.
Итак, вера противоположна знанию не потому, что она неаргументирована или неуверена в своем предмете. Это не некая ущербность знания. Эго просто совершенно иная форма установления отношений с Истиной. Существует круг вопросов, которые не допускают иного ответа, чем ответ веры22. Это поистине так, ибо самое главное в мире — моя человеческая личность, личность других людей и личностная реальность Бога ускользает от всякой технологичности и объективируемости, т.е. от всякого без-человечного опознавания. «Безличное, объективное, систематическое знание упускает самое существенное — оно не может найти меня, не может обрести Бога. Потому лишь вера может убежать от «удушающе печальной вселенной рационализма» (Г.Марсель)»23.
Вера предполагает личное отношение к предмету исследования, т.е. во-первых, свободно-волящее и потому неспровоцированное никакой нудительностью, во-вторых, личностное, т.е. именно мое, а не чье-то отношение к истине; в-третьих, установление отношений веры предполагает сущностную перемену меня как субъекта веры.
Исходя из этого можно предложить такое определение веры. Вера — личностное самоопределение человека по отношению к имеющемуся у него знанию. Когда человек открывает, что некое знание (духовное и нравственное) не может быть им просто «принято к сведению», а требует от него жизненного ответа, этим ответом оказывается вера.
«Вера, — отмечал В.Несмелов, — деятельное выражение мыслящей воли человека к достижению опознанной им цели жизни»24. В тех случаях, когда эта цель жизни прямо и непосредственно связывается с конечными, предельными основаниями всего существующего, а последние усматриваются в некоей, надмировой, надличностной божественной реальности, мы имеем ____________________ 21 Бахтин М. К философии поступка С. 112, 109.
22 См. Ратцингер И. Введение в христианство. С. 38.
23 Дондейн А. Христианская вера и современная мысль.
Брюссель, 1974. С. 82.
24 Несмелов В.И. Учение о человеке. Казань, 1908.
С. 256
84 дело с религиозной верой (разумеется, в каждой религии эта божественная реальность понимается по своему). Верой человек проявившееся у него знание о Боге переносит волевым актом из периферии своего сознания и жизни в их центр. Так разрешается кажущаяся противоречивость слов ап. Павла «Я знаю, в Кого уверовал» (Тим. 1. 12).
Вера действительно знает свой предмет. Ведь верят (в собственно религиозном, а не обыденном смысле) не во «что-то вообще». А в этом случае, как правильно заметил А.Лосев, «или вера отличает свой предмет от всякого другого — тогда этот предмет определен и сама вера определенна, или вера не отличает своего предмета от всякого другого — и тогда у нее нет ясного предмета, и сама она есть вера ни во что, т.е. не вера. Но что такое фиксирование предмета, который ясно отличен от всякого другого предмета? Это значит, что данный предмет наделен четкими признаками, резко отличающими его от всякого иного. Но учитывать ясные и существенные признаки предмета не значит ли знать предмет? Конечно, да. Мы знаем вещь именно тогда, когда у нас есть такие ее признаки, по которым мы сразу отличим ее от прочих вещей и найдем ее среди пестрого многообразия всего иного. Итак, вера в сущности своей есть знание»25.
Отношения между обретенным знанием о предмете веры и волевым актом могут быть разными. В одних случаях (и чаще всего) воля к вере имеет дело с уже хранящимся в душе знанием (человек «в принципе» признавал, что «что-то есть» и Евангелие по большому счету право, но не считал, что правота Евангелия имеет какое-то отношение лично к нему). В других же случаях воля к вере, пробудившись в человеке, понуждает его решительно менять само поле своего опыта, и, значит, не успокаиваясь на «ощущении отсутствия Бога» (которое, кстати, не тождественно «отсутствию ощущения Бога»), искать новых смыслов, нового опыта. Сама же «воля к вере есть не что иное, как воля к вниманию, воля увидать, заметить, воспринять то, что само по себе есть достоверная истина. Воля к вере есть воля направить взор на предмет духовного опыта и при этом напрячь духовный взор»26.
Воля к вере действует в человеке, поскольку речь идет не об активизации одной из потенций человека, а о его целостном исполнении. Поэтому и у самой веры оказываются, в частности, свои, ненаучные критерии самоподтверждения.
4. Религиозная гносеология в существе своем динамична волевым образом меняя себя и поле своего опыта, личность открывает предмет своей веры. Но тот, «кто ждет в бездействии наитий, прождет их до скончанья дней»27 Своим движением и устремлением вера в конце концов обретает волимый ею предмет. Означает ли это, что весь процесс религиозного поиска есть лишь проекция человеческих желаний, как это мыслят теории сублимаций? Нет, это не так.
____________________ 25 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия.
Мифология. Культура. М., 1991. С. 104.
26 Франк С.Л. С нами Бог. С. 80.
27 Гете И.-В. Собр. соч. Т. 2. С. 14.
85
Если, встретив Бога, мы обрели Его таким, каким ожидали, значит, произошла подмена и мы соорудили себе идола по образу нашему и желанию нашему. Напротив, встреча с Живым Богом вызывает в душе страх — «начало премудрости страх Божий» (Пс. 110, 10). «Немногие задумывались над неминуемой правдой этих слов… Чтобы иметь познание — надо коснуться предмета познания; признаком, что это прикосновение достигнуто, служит потрясение души, страх. Да, этот страх возбуждается прикосновением к новому, всецело новому — против нашей повседневной души. В чреду впечатлений мира вклинивается неотмирное, ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее, иное. Проникши же — ожогом ожигает наше «я» из Времени мы узрели Вечность… «Еси» — не легкое слово, в сотрясении лишь скажется оно»28.
Поэтому изумление и оказывается признаком достижения цели духовного познания и уверенности в том, что открывшееся — не «наших рук дело». «А ты растеряйся пред тем, что того и достойно» (Римма Казакова).
Но изумление, потрясенность и растерянность являются и необходимой предпосылкой начала духовного восхождения. И авторы православного «Патерика» вполне могли в своей тончайшей аналитике духовной жизни согласиться с внешне шокирующим суждением антихристианина Ницше «Нужно иметь в душе хаос, чтобы родить танцующую звезду». Хаос в душе может быть (опять же, здесь все динамично и все зависит от вектора движения сверху вниз или наоборот) признаком наступившего раскаяния и обновления, и поистине бывают такие состояния человека, когда «нужно иметь в душе хаос».
Затем начинается созидающая работа «Истину выкапывают как колодец. Взгляд, когда он распылен и рассеян, теряет способность видеть Бога»29.
Продолжим эту аналогию. Колодец роют, бывает, для того, чтобы из его глубины, спрятавшись от всезатмевающего солнца, видеть звезды. Прячутся от навязчиво-видимого, чтобы получить возможность рассматривать невидимое. Грех и страсть слишком слепят человека своими балаганными красками и от них надо спрятаться.
Вообще же, невидимость Бога есть особый предмет богословской мысли. По большому счету, «Бог невидим» — это тезис не богословия, а антропологии, это тезис не о Боге, а о человеке»30. Человек устроен так, что не видит Бога.
Ощущение Бога у него есть
О, вещая душа моя, O, сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытия!
(Ф. Тютчев) ____________________ 28 О. Павел Флоренский. Философия культа // Богословские труды. Сб. 17. М., 1968. С. 88.
29 Сент-Экзюпери А. Военные Записки. Там же. С. 192.
30 В.Джеймс усматривал в присутствии в религиозном опыте чувства невидимого сущность религии. (См. Джеймс В.
Психология религиозного опыта).
86
Но все же видения Бога нет.
Для этого существуют, безусловно, и «объективные причины» «каждая целостность, как показал Кант на примере целостности вселенной, трансцендентна и метафизична, ибо в опыте и в эмпирических науках мы не встречаем никакой целостности»31. Божественный Абсолют, конечно, есть целое мира, Единое. Целое, если и не первичнее частей (тему о творении мы здесь не рассматриваем), то, по крайней мере, онтологичнее их. Но тем самым ситуация, в которой познающий встречает в мире факты разной напряженности бытия, ставит его перед выбором или видеть Целое и не видеть частей, или видеть части, но не видеть Целого. Или Бог видим как таковой, но тогда для того, кто не есть Бог, невидим мир; или видим мир, но невидим Бог. Ситуация человека в этом выборе ясна «Бога не видел никто никогда» (I Ин. 7, 12). Напомним, что в любом, самом полном акте Богопознания человеку открывается лишь «теофания», лишь «слава Божия», то, что преп. Симеон Новый Богослов выражал словами «окрест Бога», но не самое бытие Божества, не Его Сущность. Ибо «сущность ни в каком случае не может являться человеку целиком, без остатка. Поскольку бытие переходя без остатка в свое действие, перестает быть самим собой»32. Поэтому сотеорилогически очевидно «В том, что известно, пользы нет, одно неведомое нужно»33. Осознав наличие разных уровней бытия, человек должен самоопределиться, какой мир он будет считать своим со всеми вытекающими последствиями безлично-преходящий и, соответственно, увлекающий за собою в бездну вечной смерти и прикипевшего к нему человека, или мир персонально-вечный.
Собственно, это понимание стоит за рассуждениями М.Бахтина
«Бахтин хочет сказать, что учение Платона, противопоставляющее незыблемость «истинно-сущего» и зыбкость «мнимо-сущего», «меона» имеет целью вовсе не простую констатацию различия онтологических уровней, но ориентацию человека по отношению к этим уровням от человека ожидается активный выбор, поступок — он должен бежать от мнимости и устремляться к истине «34.
Еще раз повторим «Бог невидим» — этот тезис о человеке. Как сказал Маленький Принц «… по-настоящему видеть можно только сердцем, главное невидимо для глаз». Поэтому так навязчиво и страшно главное Искушение «признай лишь явное» (так А.Фет итожит смысл искушений Христа в пустыне). Человек же может противопоставить ему лишь свой опыт, ибо «человек испытывает себя как «образ»35. Изначала Бог вручил Своему образу дар Богоискательства. И поэтому в борьбе с искушением видимостью человек может опереться на имманентно присущий ____________________ 31 Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955. С. 196.
32 Лосев А. Вл. Соловьев и его время. М., 1990.
С. 212.
33 Гете И.-В. Собр. соч. Т. 2. С. 42.
34 Аверинцев С.С. Комментарий к публикации М.Бахтина // Философия и социология науки и техники. С. 159.
35 Франк С.Л. Реальность и человек. С. 202.
87 ему дар трансцендирования, который есть способность и тяга к участию в бытии за пределами себя самого. Человек испытывает тягу к тому, что находится вне мирового контекста, и — совсем по Гумилеву — томится «шестым чувством» любви к еще неоткрывшемуся. Здесь поистине исполняется формула Паскаля — «Относительно человеческих вещей говорят, что их надо знать, прежде чем любить их, святые, напротив говорят о вещах божественных, что их нужно любить, чтобы познать»36.
Отсюда ясно, отношения между человеческим разумом и верой не всегда могут быть безоблачными. Но все же «доводы сердца» могут договориться с «доводами разума», если последний согласится считать свою собственную, внутреннюю природу не менее важным источником опыта, чем мир внешний.
Впрочем, уже можно и нужно объяснить тертуллиановскую формулу, которую почему-то считают самой сутью христианского отношения к разуму и знанию. Верую, ибо абсурдно. Этот псевдо-тертуллиановский тезис имеет совершенно определенный и верный духовный смысл. Новизна Богочеловека была невместима и невыразима античной мыслью и ее инструментарием. Это столкновение могло разрешиться двумя способами либо отказом от нового опыта в познании и человека, и Бога, ради комфорта старых философем (это путь христианских гностиков), либо принятием нового опыта в его полноте, его внутренней антиномичности и внешней абсурдности. Второй путь, избранный ранней Церковью, означал жертву репутацией в глазах светских мыслителей. Затем этот опыт начал осмысляться и выявлять свою рационализируемость (процесс, впрочем, идет и по сей день и еще далек от завершения, от возможной полноты). С точки зрения психологии духовной жизни, эта позиция сравнима с военной переправой сначала нужно усилием воли вцепиться в плацдарм «на том берегу», и лишь затем туда можно подтягивать «тяжелую технику» аргументов и силлогизмов. Эго не отвержение разума, а призыв к нему «подрасти» до понимания христианского опыта.
И сам же Тертуллиан не устает возносить разум. «Если бы в этих людях был Бог, а следовательно, и разум», — пишет он о людях, избегающих подлинного покаяния, — Бог, который «все разумно предусмотрел, желает, чтобы люди всегда действовали разумно, с пониманием»37. Так что, по суждению Церкви, «во всяком деле человек имеет нужду в рассуждении».
Значит, дело все-таки в единстве ума, познания, воли, веры и любви. «Вера воссияет в душе от света благодати, свидетельством ума подкрепляет сердце, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого сомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны»38. Итак, подлинная вера дает познание своего предмета, созерцает
____________________ 36 Цит. по Дондейн А. Христианская вера и современная мысль. С. 71.
37 Тертуллиан. О покаянии // Богословские труды. Сб.
26. М., 1976. С. 224.
38 Преп. Петр Дамаскин. Творения. Киев, 1905. С. 130.
88
Бога. Ее никак не назовешь слепой, и потому преп. Исаак называет ее «доводящей до несомненности в уповании». Зрячая вера не перестает оставаться именно верой, потому что продолжает требовать личного отношения человека и не допускает выродиться в некое «объективное» бессубъектное созерцание.
Итак, «есть знание, предшествующее вере, и есть знание, порождаемое верой».
Конечно, и это последнее знание неполно и апофатично, ибо Божественная истина не выразима человеческими словами и мерками. Но принципиальная непознаваемость Божества не должна служить основанием для запрета на духовно-познавательную деятельность вообще. «Уже ли потому, что не могу выпить целой реки, не брать мне из нее и в меру полезного для меня?» — вопрошает свят. Кирилл Иерусалимский.
Вера же волит воплотиться в любовь, жизнь, влиться в свой предмет. Ибо здесь еще одна разница между верой и знанием теория знания сама является знанием, но теория любви сама любовью не является.
Итог же веры, по слову ап. Павла, — вселение Христа верою в сердца наши (Еф. 3, 17).
5. Здесь уже, конечно, методология и гносеология бессильны они должны умолкнуть и уступить место богословию. Мы, конечно, не будем уделять специального внимания богословскому пониманию веры, а выделим только философско-значимые для нашей темы следствия, вытекающие из этого понимания. Сначала приведем это определение во всей его апостольской, новозаветной, догматической полноте. «Есть же вера уповаемых извещение и вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 1), — так гласит славянский перевод. Русский звучит так «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». «Осуществление ожидаемого». Чего ожидают христиане? «Символ веры» дает ясный ответ «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века», т.е. вечной жизни в Боге со Христом. И вот эта жизнь «будущаго века» осуществляется верою.
«Осуществление» — слово онтологически весомое, имеющее отношение не к психологии, а к бытию. И удивительно, что современные западные или протестантски-модернизированные русские переводы Нового Завета не замечают, что речь идет не о надежде, а о самом «сбывании» этой надежды. В греческом языке стоит upostasiz в латинском переводе substantia. На философский язык это Павлово определение можно перевести как «субстанциирование ожидаемого». Славянский перевод, памятуя о том, что слово «ипостась» в патристической традиции понимается как «личность», предлагает слово — «об-личение», т.е. наделение ликом, проступание лика невидимого и ожидаемого.
От «извещения уповаемых» рождается то бесстрашие, о котором говорит преп. Исаак Сирин.
Мы же повнимательнее приглядимся к «обличению вещей невидимых».
Конечно, в полноте своего смысла это речение апостола говорит о Богопознании, о вхождении в сокровенную Божественную Тайну Троицы. Но, кроме этого (или — в этом), вера открывает
89 и нечто иное. Прежде всего, на философском языке можно было бы сказать, что вера как «обличение вещей невидимых» есть открытие эйдетической, ноуменальной структуры мира. В этом ее сходство с наукой. И религия, и наука стремятся проникнуть за мир видимых феноменов с целью обретения надвременных идеальных смыслов (эйдосов), законов.
«Родина духа — одно только место. И оно смысл вещей. Так же как храм — смысл камней. Дух радуется не предметам, но тому единственному Лицу, которое он умеет читать сквозь предметы и которое их сводит в единое целое. Сделай же, Господи, чтобы я научился читать»39. Сущность постоянна, она, как мы помним, не может являться целиком. Поэтому у религии и науки есть одна общая задача — обличение того, что в тропаре свят.
Николаю называется «яже вещей Истина», обретение и усмотрение действия Логоса в мире. Человеку вменяется необходимость познания, ибо добро и зло не вылились в нашем мире в абсолютную форму, а пространственно-временная дискретность существования скрывает собою метафизическую сущность мира. Поэтому не случайно, как показывают современные исследования, эпоха возникновения научной картины мира совершенно не соответствует школьно-привычным представлениям о постепенном «ослаблении религиозного восприятия мира и укреплении казуальных, рациональных представлений о мироздании. Напротив, лютеранство, кальвинизм, многочисленные протестантские секты довели до накала религиозно-аскетическое мироощущение. Обращение к внимательному изучению природы являлось средством очищения души, аскезы, борьбы с низменными помыслами и желаниями»?40 Потому «парадокс научной революции состоял в том, что те кто внес в нее наибольший вклад (в основном это научные новаторы от Коперника до Ньютона) были наиболее консервативны в своих религиозных и философских взглядах»41. Это ясно, — ведь по позднейшему наблюдению В.Гейзенберга, «новое естествознание уводило прочь от непосредственного опыта. Математические законы выступали зримым выражением божественной воли, читаем у Кеплера. С отходом от религии новое мышление явно не имело поэтому ничего общего». Так считает создатель квантовой механики, подтверждая, что и сегодня «интимнейшая суть вещей — не материальной природы; нам приходится иметь дело скорее с идеями, чем с их материальным отражением»42.
Скрытая гармония мира, которую пытается познать наука, открывается в конце концов в чем-то схожим с путями духовного познания она открывается в ответ на изначальное доверие человека. Гейзенберг прямо признает, что лишь теологической может быть основа для нашей уверенности в том, что математические структуры, принимаемые нами за законы природы, онтологичны. «Религия, поэтому пишет он, — не ____________________ 39 Сент Экзюпери А. Военные Записки. С. 226.
40 Косарева Л.М. Генезис научной картины мира (социокультурные предпосылки). М., 1985. С. 30, 44.
41 Там же. С. 9.
42 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
С. 329, 149.
90 просто фундамент этики, она есть прежде всего основа для доверия. Возникает доверие к миру, вера в осмысленность нашего пребывания в нем»43. Вспомним, аналогичным путем еще Декарт показал, что лишь апелляцией к человеколюбию Творца можно разорвать путы солипсизма и вновь обрести доверие как к миру, так и к человеческим чувствам и разуму.
Итак, наука, как и религия, может строиться лишь на основе доверия к «извещению» о том, что за миром видимых нами феноменов скрывается некая реальность идеально-разумного порядка.
Разницы между наукой и религией такое сходство, конечно, не уничтожает. Прежде всего потому, что Истина в религии есть «Кто», а не «Что». «Я есть Путь, Истина и Жизнь». (Ин. 14, 16). Вообще то, что может найти философ или ученый в качестве «последней причины», однозначно назвать Богом нельзя. Можно назвать это Разумом, Софией, Логосом, просто неким Замыслом. Но все же это лишь некое предельное осмысление мироздания, предельное понятие и основание космоса, и в этом качестве оно не может быть понято как тождественность трансцендентному и личному Абсолюту. Эта интуиция только отчасти перекрывается христианским персоналистическим представлением о Логосе как о Личности прежде всего.
Но, даже если ученый согласен именовать эту последнюю реальность Богом, и даже если он сам исповедует библейскую веру, граница между религией и наукой остается, поскольку, несмотря на всю интенсивность своей религиозной жизни, ученый в любом случае в собственно научной деятельности будет иметь в виду наличие этого идеального первоединства. Специальным предметом своего рассмотрения он его делать не может. Религия же ставит человека именно перед Богом, а не просто перед Первоединством, и пытается понять не столько его метафизические предикаты, сколько волю Бога об этом человеке, обо мне. Поэтому в конце концов то «невидимое», что «обличается» верою, отлично от философского идеализма. Для веры прежде всего важно научить различать волю Бога о нас, т.е. видеть добро и зло. Вечные заповеди добра требуется каждый раз распознавать усилием каждого нового поступка. Здесь не может быть автоматизма. В быстротечности и непредсказуемости нашей жизни вечные заповеди гораздо менее заметны, чем это кажется. Вспомним, как в богословской сказке К.Льюиса «Серебряное кресло» «дети Адама», получив заповеди — знаки от Пославшего их, каждый раз опознавали эти знаки слишком поздно, и лишь в последнем случае им удалось справиться с неожиданностью и, вопреки всем требованиям «контекста сиюминутности», исполнить требуемое44.
Вера, утверждающая центр личной жизни в служении Богу, научается в суматохе различать нравственные ориентиры «у совершенных чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5, 14). Так вера обнаруживает, что в мире нет нейтральных вещей, что в Божием Замысле и Промысле все может ____________________ 43 Там же. С. 334.
44 См. Льюис К. Хроники Нарнии. М., 1992.
91 вести нас к духовному возрастанию, но, если наш духовный взор ослабел, то все может послужить нашему обличению на Страшном Суде. Вера совершает откровение Смысла. Ею свершается феноменологическая революция во внешнем мире вроде ничего не произошло, никаких новых событий, но все сместилось в моем восприятии мира, все обрело смысл. Так в итоге феномен веры собирает все смыслы и ступени в приятии Божественного Промысла.
Вера как волевое усилие к познанию Истины ведет к лицезрению Истины в ее благодатном самораскрытии нам. Но это созерцание не может продолжаться равно очевидно и интенсивно в нашей земной жизни. И поэтому от верующего требуется искусство не только взобраться на вершину, но и умение проложить путь от этой вершины к следующей — через долину, неизбежно их разделяющую «деятельность всегда предшествует созерцанию»45. Поэтому поистине «человеку следует строить свою веру, а не предоставлять ей расти наподобие сорной травы»46.
6. Если какое-то знание получено нерациональным, нетехнологичным путем, это не значит, что оно не может быть рационализировано позднее. История догматического богословия Церкви как раз и есть история сдвижения границ рационализируемости содержания веры в поле одного и того же изначально данного в откровении опыта. Так в Ветхом Завете следы рационализации веры практически минимальны, можно прочитать весь ветхий Завет, и не встретить каких-либо следов сознательного и явного употребления логического инструментария, в частности дефиниций. Предмет рассмотрения выясняется путем использования различного рода метафор, уподоблений, притчей.
Эта традиция была продолжена и в Новом Завете. Исключение можно сделать, пожалуй, только для послания Павла к Евреям, которое, как отмечали многие знатоки античной культуры и истории христианства, отличается от всего новозаветного корпуса своей четко выраженной приверженностью греческим канонам и нормам построения текста. Противоположную картину мы наблюдаем в творениях большинства ранних Отцов Церкви и в средневековой богословской мысли. Их можно упрекнуть не в недостаточном внимании к нормам рациональности своего времени, а скорее в противоположном — чрезмерно педантичном и скрупулезном следовании этим нормам. В эту историческую эпоху мы имеем дело с прочным союзом, единством между верой и первой исторической формой европейского рационализма. (Эту первую историческую форму европейского рационализма можно было бы назвать, следуя за С.С.Аверинцевым, логикориторической или дедуктивной, высшими образцами ее являются, с одой стороны, геометрия Евклида, а с другой стороны, римское право)47.
____________________ 45 Преп. Исаак Сирин. Творения. М., 1991. С. 365.
46 Ильин И. Пути духовного обновления. Нью-Йорк, 1962. С. 23 47 Аверинцев С.С. Две исторические формы европейского рационализма // Вопр. философии. 1990. N 2.
92
Почти на каждой странице сочинения Иоанна Дамаскина или Фомы Аквинского мы встречаемся со строгими формальными дефинициями, а мысль строится как логически строгое, последовательное движение от одной дефиниции к другой. Почти всем богословским сочинениям этого времени присуща сильнейшая тяга к максимально возможному рационализированию веры, формулированию ее в строгих логических формах, нередко в ущерб реальному живому содержанию веры (так, например, трудно себе представить, кто из солунян мог слушать и понимать утонченнейшие проповеди своего архиепископа — величайшего византийского богослова Григория Паламы). Но, начиная с Нового времени, исторические судьбы веры и рациональности, — по крайней мере если иметь в виду вторую историческую форму европейского рационализма, так называемый классический рационализм, — расходятся. Здесь не время и не место вдаваться в рассказ о культурных, исторических, социальных причинах этого размежевания. Заметим только, что оно произошло не в последнюю очередь под воздействием все более властно заявлявших о себе претензий нового рационализма на абсолютность, всемогущество и универсальность. И именно набирающие силу, особенно в последнее столетие, сомнения в безграничных возможностях рациональности, в ее абсолютности, всесилии и всевластии, питают в наши дни надежды на возможность новой гармонии между верой и рациональностью. Этот новый союз, эта новая гармония между верой и новой рациональностью пока еще только дальняя и очень абстрактная возможность48. Но даже если эта перспектива через какой-то исторический промежуток времени наполнится реальным содержанием, тем не менее, так же как и в отношениях между религией и наукой, это не снимет принципиальных различий между ними. Вера как была, так и останется в принципе полностью не рационализируемой, и это связано с самой сущностью веры. Рациональность, как бы мы ее ни понимали, была и останется некоей формальной характеристикой содержания человеческого познания и поведения, тогда как вера — итог, кристаллизация живого религиозного опыта. Любой религиозный догмат, в какой бы гибкой утонченно-рафинированной рационалистической форме (по сравнению с современным рационализмом) он ни был выражен, нужно брать не как точное исчерпывающее и адекватное выражение самого существа Бога, напротив, это существо остается до конца непостижимым для концептуально-понятийного мышления. Эта истина носит символический характер, то есть является знанием, выражающим прозреваемое нами существо Божества в такой форме, что оно одновременно остается для нас близким и понятным, и в то же время чем-то таинственным и непостижимым. Именно поэтому Православие, в частности, не слишком надеется на поиск и применение доказательств бытия ____________________ 48 По-видимому, именно о таком новом союзе мечтал А.С.Хомяков, говоря о «верующем мышлении» и «мыслящей вере». Попытку, на наш взгляд, не совсем удачную, реализовать этот замысел предпринял В.В.3еньковский в книге «Основы христианской философии» (Париж, 1948).
93
Бога. «Православное богословие не исходит из доказательств бытия Божия и из обращения людей к философскому деизму; оно ставит их лицом к лицу с Евангелием и ожидает их свободный ответ. Их жизнь в Церкви и есть этот ответ» (прот. Иоанн Мейендорф)49. Мы сознаем существо Бога не с помощью четких понятий, а с помощью образов, сравнений, уподоблений, намеков, дающих возможность как-то почувствовать, внутренне испытать содержание этой сокровенной тайны. Главное здесь не упускать из виду особенности религиозного познания как совершенно особого вида познания. В частности, мы видели, что религиозное знание не есть результат чисто теоретического, беспристрастного созерцания внешних объектов, выраженное в бессубъектно-объектной форме. Напротив, это есть знание-понимание, знание-переживание, знание-общение. Вера есть познание несомненного, но эта несомненность уловляется не рационально, а экзистенциально, опытом проживания обретенной истины. Потому и итог религиозного познания — религиозный догмат — не исчерпывается чисто теоретическим суждением об объективной природе той реальности, с которой мы имеем дело в религиозном опыте. Реальность, которую мы познаем в религиозном опыте и пытаемся выразить интеллектуально и фиксировать в догмате, строго говоря, является реальностью совершенно иного порядка. Истинный смысл догмата не теоретический, а практический. Догматы служат как бы вехами, позволяющими верующему человеку правильно выстроить свой жизненный путь, правильно выбрать жизненные ценности и ориентиры. Отсюда понятно и позитивное значение религиозных догматов, а вместе с тем и роль рационализации в процессе формирования и развития религиозного познания и религиозной мысли. Догматы, формулируемые в процессах рационализации духовного опыта, обобщают, уточняют, проясняют и систематизируют все богатство и многообразие этого опыта. Взятые в своей совокупности истины догматического богословия, хотя они и содержат в себе потенциальную угрозу принудительнорационального нормирования веры, все же при правильном понимании их природы помогают осмысленному пониманию существа веры, укреплению и поддержанию ее единства, позволяют отсечь неправильные толкования и интерпретации.
Последнее, учитывая особую сложность, тонкость и деликатность объекта, с которым имеет дело религиозное познание, особенно важно. С одной стороны, именно богатство конкретного религиозного переживания неудержимо влечет к возможно более полному и точному осмыслению его в истинах точного догматического богословия. К тому же парадоксальность христианской веры по сравнению с установками обыденного опыта несет в себе опасность упрощенного, ложного понимания содержания веры, и тем самым порождает острую потребность в точном и ясном фиксировании нюансов евангельской проповеди. И здесь возможности того метафорического мышления, о котором мы говорили, уже недостаточны. Оно должно быть дополнено средствами ____________________ 49 Вестник РХД. N 94. С. 28.
94 интеллектуально-рациональной фиксации содержания проговариваемого опыта. Таким образом, нельзя ни приуменьшать, ни преувеличивать роли и значения процессов рационализации даже в становлении и развитии богословской мысли. Тем более это верно, когда речь заходит о месте и роли рациональности в структуре человеческой жизнедеятельности в целом, оцениваемых с точки зрения христианской перспективы.
Уже не раз на протяжении всей статьи мы касались вопросов о взаимоотношении веры и знания, религии и науки. В заключение подведем некоторые итоги нашего рассмотрения. Отношения между верой и разумом, верой и рациональностью, этим, если можно так сказать, нормализованным и стандартизированным выражением разумности, не есть отношения противоположности и взаимного исключения. Религиозная вера, по крайней мере, в христианском ее понимании, отнюдь не представляет собой одну из разновидностей рациональности. Религиозное знание скорее можно назвать сверхрациональным или трансрациональным. Тем более оно выходит за рамки классических норм, эталонов т.н. «классической рациональности», и в особенности научной рациональности как высшего продукта этой рациональности. Однако этот итог нашего рассмотрения отнюдь не совпадает с утверждением какого-либо скептицизма или иррационализма, не ведет к утверждению какого-либо банкротства, несостоятельности положительного рационального познания ни в познавательной, ни в жизненно-практической деятельности. Рациональность остается существенным и необходимым элементом и бытия, и познания, и практической жизнедеятельности. И потому опирающаяся на него мировоззренческая установка на трезвое рациональное миропонимание вполне оправдана и уместна и с точки зрения человека, мыслящего в традиции христианской мысли. Если бы человек ограничивался только логикой христианского вероучения, то он и пришел бы только к сознанию его непостижимости или просто немыслимости. А если бы он остановился только на мысли об этой непостижимости, то нашел бы в этой мысли основание не для своей веры, а для своего неверия50. Неадекватной и даже ошибочной представляется не сама по себе установка на возможно более полное построение на основах рационалистического миропонимания жизнедеятельности и познания, построения, разумеется, учитывающего всю исторически обусловленную относительность самих стандартов и норм рациональности, а ее притязания быть абсолютной и исчерпывающей и тем самым исключающей саму возможность познания, устроенного на иных принципах и основаниях.
Напротив, мы нашли, что рациональность, будучи важнейшим конституирующим принципом предметного познания, то есть познания, ставящего своей задачей исследование свойств и закономерностей внешнего предметного материального мира, необходимо и естественно дополняется познанием духовного мира человека и духовной реальности. На этом уровне выясняется, что как познание, так и само бытие в своих глубинных ____________________ 50 Несмелов В. Наука о человеке. Казань, 1906. Т. 2. С. 5.
95 основаниях есть единство рационального и иррационального. Потому и отношения между верой и рациональностью при правильном понимании их природы включают не только отношения взаимного отталкивания и борьбы, но и довольно широкое про- странство для взаимообогащения и взаимодополнения.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http //www.gumer.info/
«