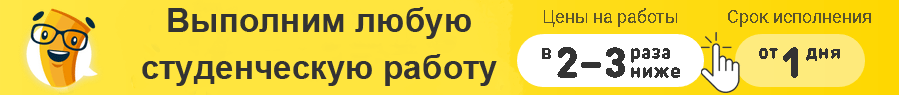Был ли Маркс утопистом?
Был ли Маркс утопистом?
Был ли Маркс утопистом?
Межуев В.
В критической литературе о Марксе и его теории обвинение в утопизме, пожалуй, наиболее распространенное. Вопреки тому, что Маркс сам думал о себе, желая поставить на место идеологии, исторической метафизики (философии истории), тем более утопии научное знание об истории, названное им материалистическим пониманием истории, его критикуют, как правило, не как ученого, а как именно утописта, подменяющего знание о том, что есть и было, пророчеством о том, чего нет и никогда не будет. В глазах его критиков сделанное им в плане анализа современного ему общества полностью перечеркивается якобы совершенно ненаучной проповедью коммунистической утопии, которую к тому же он выдал за политическую программу рабочего движения. Для тех, кто узурпировал право на звание ученого, коммунистическая вера в отличие от любой другой несовместима, видимо, с принадлежностью к научному сообществу.
Противоположность утопии и науки была осознана еще в прошлом веке, но только в наше время – в рамках социологии знания – утопию стали рассматривать не как личный порок того или иного мыслителя, а как свойство сознания, находящегося к социальной действительности не только в теоретическом, но и практическом отношении, ставящего своей задачей ее изменение и преобразование. Под утопиями, согласно определению Карла Манхейма – автора знаменитой “Идеологии и утопии”, следует понимать такие феномены сознания, которые, будучи трансцендентны бытию, стремятся “преобразовать существующую историческую действительность, приблизив ее к своим представлениям”1 . Являются ли эти представления абсолютно утопичными, т.е. в принципе никогда нереализуемыми, или относительно утопичными, т.е. нереализуемыми в рамках существующего социального порядка, точнее, в глазах его представителей, – вопрос, ставящий под сомнение любую попытку судить об утопичности того или иного воззрения с позиции абстрактного наблюдателя, мыслящего вне какого-либо социального контекста. Ведь то, что представляется ему утопичным, может быть таковым лишь по отношению к порядку, с которым он себя отождествляет. “Здесь все дело в нежелании выходить за пределы данного социального порядка. Это нежелание лежит в основе того, что неосуществимое на данной стадии бытия рассматривается как неосуществимое вообще… Называя без какого-либо различия утопичным все то, что выходит за рамки данного порядка, сторонники этого порядка подавляют беспокойство, вызываемое “относительными утопиями”, которые могли бы быть осуществлены при другом социальном порядке”2 .
То, что кажется утопией сегодня, завтра может стать действительностью. Идея “свободы” для поднимающейся революционной буржуазии была подлинной утопией, которая только после ее победы обрела черты частично осуществленной реальности. Из утопии, взрывающей старый строй, она превратилась в идеологию, оправдывающую новый порядок вещей. Любая форма сознания, выходящая по своим пожеланиям и требованиям за рамки существующего, предстает как утопия. Таких в истории Нового времени, как считает Манхейм, было четыре – “оргиастический хилиазм анабаптистов”, “либерально-гуманистическая идея”, “консервативная идея”, наконец, “социалистическо-коммунистическая утопия”. Каждая из них, уничтожая другую во взаимной борьбе, постепенно сходила с исторической арены. Общественный порядок, родившийся в результате индустриализации и рационального овладения природой, внедрения науки в производство и управление, несовместим ни с утопиями, ни с идеологиями, нуждается в сознании, полностью соответствующем действительности, исключающем из себя все виды трансценденции. Такое сознание может быть только научным. Социализм, по мысли Манхейма, применил впервые в борьбе с враждебными себе утопиями метод научного – социологического – анализа их исторической и социальной обусловленности, вскрыв тем самым их идеологическую предвзятость и классовую ангажированность. Правда, то же самое он забыл сделать по отношению к себе. Когда и он подвергнется такому же анализу, век утопии кончится. “Мы приближаемся к той стадии, когда утопический элемент полностью (во всяком случае в политике) уничтожит себя в ходе борьбы своих различных форм”3 .
Но вот что интересно мир без утопии не кажется Манхейму слишком привлекательным. Ведь утопия до сих пор делала возможной историю в плане изменения ее духовной структуры, способствовала ее восприятию и пониманию как целостности. Мир без утопии – это антиутопия, где человек лишается воли к созиданию нового и веры в будущее. “…В будущем действительно можно достигнуть абсолютного отсутствия идеологии и утопии в мире, где нет больше развития, где все завершено и происходит лишь репродуцирование, но… полнейшее уничтожение всякой трансцендентности бытия в нашем мире приведет к такому прозаическому утилитаризму, который уничтожит человеческую волю… Исчезновение утопии создаст статичную вещность, в которой человек и сам превратится в вещь”4 . Полностью рационализированный и сциентизированный мир, где нет места фантазии, мифу, утопии и просто человеческой надежде на лучшие времена, где все от начала и до конца просчитано, выверено и предписано наукой, – это самая страшная утопия (точнее, антиутопия) которая может прийти в голову человеку.
В XX в. единственное, что можно поставить в упрек утопии, – это ее претензии быть властью, стоять у власти, подменять собой политическое, основанное на трезвом расчете решение встающих перед обществом проблем. В плане же духовном отказ от утопии, исчезновение всех ее возможных форм, может привести к тому, что человек “утратит волю создавать историю и способность понимать ее”5 .
Элемент утопичности, несомненно, сохраняется и в учении Маркса (как и во всех идейных течениях его времени), но не там, где его обычно ищут. Маркс утопичен в той мере, в какой претендует не только на объяснение действительности, но и на ее изменение и преобразование. Не критика капитализма сама по себе является утопией, а стремление придать этой критике характер революционного действия, ломающего старый порядок и навязывающего всем волю одного класса и одной партии. Одно дело критиковать капитализм, другое – призывать к его насильственному уничтожению. Критика вполне совместима с научностью, желание насильственно переломить ход истории всегда утопично.
Маркс велик там, где доказывает утопичность мечтаний революционной буржуазии о свободе и равенстве в рамках созданной ею цивилизации. Но он сам впадает в утопизм, предполагая, что осуществить эти мечтания способен только революционный пролетариат. Не стремление людей к свободе и равенству является утопическим, а мысль о том, что оно – это стремление – может быть реализовано волевыми усилиями какого-то одного класса общества, пусть на данный момент и самого многочисленного. Пройдет немного времени и станет ясно, что вера в освободительную миссию пролетариата не менее утопична, чем предшествующая ей вера в освободительную миссию буржуазии.
Утопия, как известно, после того, как отвергаемый ею социальный порядок разрушен, склонна превращаться в идеологию. Сходный путь проделал и марксизм, как только он стал официальной догмой большевистской власти. По иронии истории, учение, претендовавшее на преодоление всяческой идеологии, было истолковано его последователями как идеология по преимуществу, хотя иногда и с добавлением эпитета “научная”. Для самого Маркса словосочетание “научная идеология” столь же неприемлемо, как выражения типа “народное государство”, “казарменный коммунизм” и пр. По смыслу его теории, идеология несовместима с наукой, поскольку, будучи классовым сознанием, лишена достоинства “всеобщего знания”. Наука, следовательно, отрицает как утопию, так и идеологию. В отличие от последней, выражающей интересы отдельного класса или группы, наука содержит в себе истину, обязательную для всех. Что же предопределило неудачу главной претензии марксизма – быть не идеологией, а наукой?
Причина, разумеется, заключена в самом марксизме, попытавшемся сочетать несочетаемое – научность и классовость, стремление быть всеобщим знанием и одновременно выражением классовых интересов пролетариата. Своей коммунистической критикой капитализма Маркс претендовал как бы на двойной синтез с одной стороны, на сочетание этой критики с рабочим движением (пролетарская версия социализма), с другой – на соединение ее с наукой (научный коммунизм). В попытке такого синтеза и заключено исходное противоречие, сыгравшее роковую роль в истории марксизма. Правда, стремясь избежать этого противоречия, Маркс попытался изобразить пролетариат “всеобщим классом”, чьи интересы совпадают с интересами всего общества, в конечном счете – человечества. Поэтому сознание такого класса также является всеобщим, т.е. научным. Однако данное представление как раз и содержало в себе элемент утопии, что стало очевидным на более поздней – индустриальной и постиндустриальной – фазе развития капитализма.
На этой фазе рабочий класс обнаружил тенденцию не только к своему количественному сокращению в общем составе работающего населения, но и качественному преобразованию, обретая черты не столько класса, сколько профессии, уступая место и роль главной производительной силы работникам умственного труда. Потому и представлен он сегодня в западном обществе не столько политическими партиями, сколько профсоюзами. Само рабочее движение в наше время утратило характер политической борьбы за власть, напоминая более экономический торг за более выгодные условия труда. Да и сами партии левого толка на Западе менее всего похожи на политические организации рабочего класса с их духом пролетарской солидарности и интернационализма. По мере того, как представление о всемирно-исторической миссии пролетариата обнаруживало свою утопичность и иллюзорность, становилась очевидной и несостоятельность преодоления марксизмом своей идеологической предвзятости. После Маркса “верные марксисты”, которые никак не хотели расстаться с этой иллюзией, довершили процесс превращения его учения в идеологию, причем даже за счет тех элементов научности, которые в нем содержались.
Похоже, Маркс ошибался (оставался в плену утопии) в определении субъекта современного исторического процесса, выражающего его главные тенденции. Нет смысла перечислять здесь и все остальные ошибки Маркса, естественные для любого мыслителя, ограниченного в своих воззрениях на мир обстоятельствами своего времени. Разумеется, в конце XX века многое выглядит не так, как в середине XIX. Капитализм стал другим, найдя новые источники своего экономического роста, связанные прежде всего с применением научного знания и развитием информационных систем. Не количество затраченного живого труда, а качество продукции, производство которой базируется на принципиально новых технологиях, стало источником получения прибылей, поставив под сомнение всю трудовую теорию стоимости. Само понимание капитализма как общества эксплуатации наемного труда и непримиримой классовой борьбы между трудом и капиталом требует сегодня существенной корректировки. В своем нынешнем виде он оказался способным реализовать многие программные установки социализма, как он мыслился в прошлом веке. Социальный сдвиг в эволюции капитализма ставит под вопрос саму версию “пролетарского социализма” с его революционным пролетарским мессианизмом, лишает эту версию статуса научной теории, обнаруживая ее крайнюю утопичность и идеологичность.
И все же сохраняется главное – капитализм и в нынешнем виде не является тем, каким его хотели видеть идеологи революционной буржуазии, провозгласившие наступление царства свободы и равенства. Он и сейчас остается предметом критики со стороны как марксистских, так и немарксистских учений и движений. Вопрос лишь в том, в какой мере эта критика является научной, обладает статусом научной теории. Может ли критика капитализма, данная Марксом, претендовать на такой статус?
Очевидно, не всякая критика исключает утопию. Любая утопия критична по отношению к наличной действительности, противопоставляет ей иную – пусть и выдуманную – действительность. В XIX в., как известно, не было недостатка в различного рода “опытах” критического осмысления буржуазного общества. Не говоря уже о социалистах-утопистах, критика этого общества ведется со стороны как либерального, просветительского, так и романтического крыла философской и социально-политической мысли того времени. Она составляет неотъемлемый элемент даже таких идейных программ, которые не ставили перед собой далеко идущих целей. Однако в большинстве своем такая критика носила вненаучный, “морализирующий” и даже откровенно “мистический”, по выражению Маркса, характер, отталкивалась от метафизических постулатов и целей “трансцендентального” или “абсолютного разума”, от внеисторически истолкованной “природы человека”. Историю судили и рядили мерой, лежащей вне истории. Капитализм признавался ущербным не в силу своей внутренне противоречивой природы, а в силу своего несоответствия абстрактным требованиям “абсолютного разума”, “духа” (религиозного, морального, эстетического) или иррационально понятой “жизни”. Можно такую критику назвать метафизической, а не научной, но в любом случае она предстает как разновидность утопического сознания, апеллирующего к тому, чего нет ни в каком опыте. Кант со своей идеей “морального порядка” не менее утопичен, чем все социалисты-утописты. И почему нельзя назвать утопистом Ницше с его идеей сверхчеловека и вечного возвращения?
Отсюда легко предположить, что любая критика утопична. Задача науки – не критиковать, а описывать и систематизировать то, что дано в опыте. Такова в общем позиция позитивизма. Маркс даже в философии Гегеля с ее отождествлением разумности и действительности усмотрел элементы “некритического позитивизма”. Между критицизмом (утопизмом) и позитивизмом нет вроде бы никакого иного пространства, на которое мог бы претендовать ученый. В своей критике капитализма и соответствующих ему форм сознания Маркс и попытался избежать обе эти крайности, т.е. сочетать критичность и научность. Тем самым он положил начало совершенно новой научной традиции, названной впоследствии социальной критической теорией. Последняя была продолжена многими течениями современной общественной мысли, в частности знаменитой Франкфуртской школой социальных исследований. Ее можно, конечно, числить по ведомству социальной философии, но в действительности она представляет одно из важнейших направлений современной социологической (т.е. научной) теории.
Несомненная научная заслуга Маркса – создание критической теории, равно исключающей как утопический, так и позитивистский элементы. На чем основана такая теория, что делает ее возможной? Как быть критиком, не впадая в утопизм, и теоретиком-ученым, не впадая в позитивизм? В теоретическом наследии Маркса это, на мой взгляд, главный вопрос, подлежащий обсуждению.
Главное обвинение в адрес Маркса – его приверженность коммунистической идее, которая и всю его критику капитализма превращает в чисто утопическое предприятие. По мнению противников Маркса, не только сочетание этой идеи с рабочим движением, но и ее сочетание с наукой – заведомо бесперспективное и порочное в своей основе дело. Коммунизм и социализм никогда не станут научной теорией хотя бы потому, что апеллируют к обществу, которому ничего не соответствует в реальном опыте, нет места (топоса) ни во времени, ни в пространстве. Они по самой своей сути – утопические идеи.
Разумеется, есть идеи, которые утопичны при любых обстоятельствах, абсолютно утопичны, т.е. никогда не реализуемы такова, например, идея физического бессмертия человека или воскрешения всех мертвых. Но есть и такие, чья утопичность очевидна лишь для сторонников уже существующего строя и образа жизни. Коммунизм – несомненно, утопия для тех, кто видит в капитализме заключительную фазу истории, а в либерализме – вообще “конец истории”. Относительная утопичность коммунизма в сознании людей, живущих настоящим, не служит, однако, доказательством его абсолютной утопичности. Но и его относительная утопичность может быть поставлена под сомнение, как только мы попытаемся понять, что именно Маркс называл коммунизмом.
Достаточно уяснить себе, что для Маркса нет и не может быть общества, способного исчерпать все возможности исторического процесса, резюмировать собой всю историю, как сразу же обнаружится главная и подспудная мысль его критики капитализма – она апеллирует не к реальности какого-то конечного и заключительного общества, место которому в будущем, а к реальности всей человеческой истории в ее бесконечности. Мы никогда не понимали этого центрального мотива марксовой теории. Маркс не ставил перед собой задачу нарисовать картину идеального общества, в котором люди, наконец, освободятся от истории, прекратят бег времени. Такая задача была бы действительно утопической. Как раз наоборот. Коммунизм, в его представлении, – не общество, которое надо раз и навсегда построить на радость всем, а история в ее бесконечном и непрерывном движении; в отличие, однако, от истории вещей и идей он – история самих людей, в которой человек является главным регулятором развития. Коммунизм – не цель истории, а сама история в ее глубинном содержании и значении, в ее собственном бытии, свободном от всех внешних и превращенных форм ее протекания. А история по своей сути, по своему онтологическому статусу – не просто существование людей в том или ином социально организованном пространстве, а их жизнь во времени, не имеющем конца, не могущем остановиться в каком-то одном и кем-то указанном пределе. Не совершенное общество с совершенными людьми должно прийти на смену истории, а история, наконец, должна покончить со всяким общественным застоем, с попытками задержать ее в той или иной точке развития.
Сознание незавершенности, незаконченности исторического развития, невозможности сведения его к какой-то окончательной фазе – главное в марксизме. Маркс в этом смысле – критик не только капитализма, но любого общества, коль скоро оно хочет быть последним в истории. Свою критику капитализма он ведет с позиции не какого-то другого общества, более совершенного, чем капитализм, а истории, понятой в ее собственном качестве “самопроизводства человека”, т.е. реальности более глубокой, чем только реальность его социального – экономического и политического – бытия. Такую критику можно назвать как исторической, так и коммунистической, понимая под коммунизмом ту же историю в ее собственной логике существования. В любом случае Маркс – теоретик истории, а не общества (даже коммунистического), и потому только критик любого общества. Наукой, интересующей его, он недаром называл историческую науку, “историю людей”, противопоставляя ее всем формам идеологии и утопии, всем видам позитивистского знания об обществе, будь то политическая экономия или социология. Обсуждению подлежит в данном случае не утопизм Маркса, а отстаиваемое им право историка быть теоретиком, а не просто эмпириком, ограничивающим себя сбором, накоплением, описанием и классификацией исторических фактов.
Историческая научная теория может быть только социальной критикой, т.е. критикой любой формы социальной наличности. Такая теория претендует не на открытие вечных и неизменных законов исторического движения, позволяющих предсказывать будущее, пророчествовать о нем, в чем ее обвиняет Карл Поппер в своей “Нищете историцизма”, а на открытие такого пласта исторической реальности, который, присутствуя в настоящем, не покрывается полностью реальностью, описываемой в понятиях экономической, политической и даже социологической науки. Ни одна из этих наук не улавливает, может быть, главного в истории – того, что составляет основу всех ее превращений и изменений. Назовем это главное пространством культуры.
В своей структурной сложности история не исчерпывается сферой социального с ее политической целесообразностью и экономической рациональностью. Существует и духовная сфера, в которой человек руководствуется целями более высокого порядка, главной из которых является его собственное развитие во всей полноте его земного бытия. Как бы не называть ее – сферой свободы, культуры, подлинно человеческой коммуникации – именно она являет собой наиболее фундаментальный, глубинный пласт исторического бытия, обладает, так сказать, наибольшей степенью реальности. К этому пласту и апеллирует историческая теория Маркса, превращая его в основу своей критики любой формы исторической наличности, овеществленной в нормах, принципах и понятиях конкретного общества. Коммунизм в таком контексте и есть история, есть “решение загадки истории” в том смысле, в каком она движима интересами не экономики и политики, а культуры, т.е. собственно человеческими интересами. Вопреки тому, что Карл Поппер писал о Марксе, такое видение истории содержит в себе не пророчество о будущем обществе, а критику настоящего общества с позиции столь же реально существующей в настоящем культуры. Обвиняя Маркса в отсутствии у него социальной – экономической и политической – технологии, которая могла бы быть положена в основу будущего общества, Поппер не учитывает того, что историческое видение Маркса базируется на технологии иного рода – не экономической и политической, а культурной, апеллирующей к практике “всеобщего труда” и культурно-творческой деятельности. Это тоже социальная технология, но не та, что используется в рамках прагматически мыслящей социальной инженерии.
Критическая теория Маркса предлагает не какую-то новую и ни на что не похожую экономическую и политическую теорию общества (всегда было трудно понять, что у нас называется социалистической экономикой и социалистическим государством) – здесь ей нечего противопоставить либеральной теории правового государства и свободного рынка, – а критику самой экономики и политики вместе с соответствующими им формами сознания и объяснительными теориями (вспомним хотя бы подзаголовок “Капитала” – критика политической экономии) в качестве базовых условий исторической жизни. В своей критике Маркс ищет альтернативу (не в будущем, а в настоящем) не капитализму самому по себе, а всей цивилизации, которая на этапе капитализма достигает лишь своего наивысшего расцвета. “Великую цивилизующую роль капитала” в истории Маркс никогда не отвергал. И если мы хотим ограничить человеческую историю лишь историей цивилизации, то лучше капитализма ничего не придумаем.
Но ведь помимо истории цивилизации существует еще и история культуры. В силу причин, которые и пытался выяснить Маркс, обе эти истории до сих пор плохо “стыковались” друг с другом, оказывались во взаимоисключающем отношении. На этапе капитализма такая нестыковка – конфликт между цивилизацией и культурой – становится лишь более очевидной, чем на предыдущих. Капитализм потому и становится для Маркса объектом преимущественной критики. В чем же причина этого конфликта?
Вся история цивилизации, по мысли Маркса, постепенно, но неуклонно утверждала принцип общественного разделения людей, проводя его через все стороны и сферы их общественной жизни – разделение труда, собственности, власти, сознания и пр. История цивилизации есть история победы разделенного, или частного, индивида (частного собственника или частичного работника) над всеми формами первоначальной и непосредственной коллективности людей, где части еще не выделились из целого, сливаются друг с другом в какой-то однородной и неразличимой внутри себя общности. Но частное – отнюдь не синоним индивидуального. В обществе частных (разделенных) интересов индивидуальное скорее есть юридическая (и эстетическая) видимость частного, чем его реальная характеристика. Части на то и части, что могут удерживаться в составе целого по причинам, от них не зависящим, – вне их находящейся и возвышающейся над ними силой государства или механизмами товарного производства и обмена, вплоть до господства денег и капитала. Компенсацией разделения людей на частных индивидов становится концентрация на другом полюсе цивилизации развившихся до всеобщности, но существующих в отрыве, отчуждении от людей их собственных сил и отношений. Вся цивилизация движется в этой противоположности частного и всеобщего, каждая из которых в отрыве от другой тяготеет к чистейшей абстракции. Цивилизация объединяет людей как частных, или абстрактных, индивидов, связывает их узами, не имеющими ничего общего с их личностью, индивидуальностью. В этом смысле они и противостоят культуре, принципом которой является индивидуальное авторство, наличие свободной и неповторимой личности (“свободной индивидуальности”), открытой к всестороннему общению с другими. Человек становится индивидуальностью в качестве лица, равного не части, а целому, как оно представлено в богатстве человеческой культуры.
В терминах социально-исторической теории Маркса различие между цивилизацией (с ее принципом социального разделения людей и их частного существования) и культурой(объединения людей на базе их межличностной, индивидуальной коммуникации) фиксируется как различие между капитализмом – высшим этапом цивилизационного развития – и коммунизмомкак уходящей в историческую бесконечность культурной альтернативой этому развитию. Достаточно заменить термины, чтобы за набившей оскомину терминологией увидеть вполне реальную проблему, актуальную и в наши дни.
По словам Раймона Арона, в критике Марксом нынешнего общества “с надеждой реализации идеала целостного человека в результате простой замены одной формы собственности другой выражены одновременно величие и двусмысленность марксистской социологии”6 . В чем же ее двусмысленность? Здесь, как считает Арон, социологическая (т.е. научная) по своей сути теория становится философией (т.е. опять же разновидностью утопии). У Маркса, как полагает Арон, неясно, какой вид деятельности, труда соответствует этому идеалу. “Если сугубо человеческая деятельность не определена, то остается опасность возврата к понятию целостного человека, отличающемуся крайней неубедительностью”7 . Маркс, утверждает Арон, нарисовал прекрасный идеал общества, но не указал пути его реализации. Данное обвинение не учитывает всего того, что было написано Марксом по поводу “всеобщего труда” и “свободного времени” – реалий не будущего, а уже современного общества, служащих основанием человеческой целостности. Целостный человек, или “свободная индивидуальность”, для Маркса – не отвлеченный философский идеал, а самая что ни на есть реальность, искать которую следует, однако, не в экономической и политической, а культурной действительности.
Но как же быть с общественной собственностью, в которой многие критики Маркса усматривают самую опасную, вредную и, разумеется, тоже утопическую часть его учения? Вот уж поистине идея, не имеющая в реальной истории никакого разумного основания. И мало кто захотел разобраться в том, что данная идея давно является реальностью, правда, реальностью не экономической (на такую она и не претендует), а также чисто культурной.
Приходится лишь удивляться, когда слышишь, что общественная собственность – это когда все общее, равно принадлежит всем. Достаточно объединить любые средства производства в руках многих, чтобы считать такую собственность общественной (или в лучшем случае коллективной). Нет ничего ошибочнее такого мнения.
Коллективным может быть и субъект частной собственности, как то имеет место в различного рода кооперациях, акционерных обществах и пр. Частная собственность характеризуется не числом субъектов (если один, то частник, а много, то уже не частник), а частичностью находящегося в их распоряжении богатства, существующей здесь границей между своим и чужим то, что принадлежит одному или нескольким лицам, не принадлежит другим лицам. Основу частной собственности – личной или групповой – составляет дележ богатства. Причем пропорция, в которой оно делится, постоянно колеблется в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Царство дележа есть подлинное царство частной собственности. Оно и породило мечту о равном дележе в ранних социалистических утопиях. Равенство в достатке – самая возвышенная греза такого социализма. Его можно было бы назвать равенством в сытости, мечтать о котором вполне естественно в странах с хронической нищетой большинства населения. Установление такого равенства – добровольное или принудительное – и есть утопия уравнительного социализма, которую Маркс не без основания считал порождением той же частной собственности.
Решением вопроса является, видимо, не отказ от равенства, а иное его понимание, связанное не с равным дележом материального богатства, не с правом лишь иметь “по труду”, “по потребностям” или по чему-то еще, а с правом быть тем, кем тебя сделал Бог, природа или ты сам себя, т.е. с правом жить “по способностям”. Конечно, если не полное изобилие, то определенный достаток нужен любому человеку, но он сам по себе не гарантирует ни равенства, ни свободы. В погоне за ним люди часто жертвуют тем и другим. Равными они становятся тогда, когда живут по мерке своей индивидуальности, которая, как уже говорилось, равна не части, а целому. Когда каждый равен целому, тогда все равны между собой.
Путь к равенству лежит, действительно, через общественную собственность, понимаемую, однако, не как собственность всех на что-то, а как собственность каждого на все. Равенство не в обладании, а в бытии диктует и иное отношение к собственности. Как частное лицо человек заинтересован в той части богатства, которая принадлежит только ему, как свободная индивидуальность он нуждается во всем богатстве. Это и есть формула общественной собственности, предполагающая не дележ богатства (даже равный), а его присвоение каждым целиком и без остатка. Как свобода каждого есть условие свободы всех, так собственность каждого на все богатство есть условие общественной собственности. Последняя – не та обезличенная собственность, которая принадлежит всем и потому никому в отдельности, а та, которая принадлежит каждому и потому всем вместе. Только богатство, исключающее дележ, равно доступное каждому, делает людей равными друг другу. В отличие от либерализма, провозгласившего равенство людей в их праве на частную собственность (и потому разделившего их по степени реального владения ею), Маркс поставил вопрос об их равенстве в самом обладании собственностью, о праве каждого владеть всем богатством.
Но что это за богатство, которое принадлежит каждому без ущерба для других, не убывает от того, что им распоряжается каждый, а значит, не требует в своем пользовании никакого дележа? Здесь мы подходим к главному. Таким богатством, видимо, могут быть только те средства и условия труда, которые по своей природе являются “всеобщими”. Средства разделенного труда можно, конечно, обобществить с формально-юридической точки зрения, но такое обобществление лишено какого бы то ни было экономического смысла. Мне, например, совершенно безразлично, кому принадлежит завод, на котором я не работаю. Как потребитель я заинтересован в продукции этого завода, но не в нем самом. Кому нужна собственность на орудия и средства чужого труда? Горожанину не обязательно быть собственником орудий сельского труда, равно как и наоборот. И не в этом состоит общественная собственность. Последняя есть собственность на то, без чего невозможен труд каждого. И таким “всеобщим условием труда” в современном производстве является прежде всего наука, научное знание. Наука по самой своей природе является всеобщим достоянием, не ущемляющим при этом права на нее со стороны каждого. Она потому и есть объект реального обобществления.
В более широком смысле под общественной собственностью следует понимать собственность на культуру в целом, на все то, что служит условием производства самого человека как “основного капитала”. Наряду с наукой к ним относятся искусство, образование, источники и средства информации, формы общения, различные виды общественной и интеллектуальной деятельности. Собственность на них делает человека не имущественно, а духовно богатым существом, чье богатство заключено в его индивидуальном развитии. Общественная собственность тем самым – не экономическая, а культурная категория, означающая обобществление “духа”, всей человеческой культуры. В появлении такой собственности дает о себе знать историческая тенденция перехода не к свободной экономике (рыночной или какой-то другой), а к свободе от экономики, от необходимости быть тем, кем индивид является в обществе по своей социальной функции или роли.
Равенство и свобода достижимы, следовательно, не в сфере экономической реальности, базирующейся на разделении труда, частной собственности и рыночной конкуренции, а за ее пределами – “по ту сторону” экономической необходимости. Данное утверждение вызвало в адрес Маркса немало злобных шуток и нареканий. Никто при этом не захотел разобраться, как он мыслил переход в “царство свободы”. Речь шла у него не об отрицании экономики, что действительно является утопией и весьма вредной, а об ином источнике развития общественного производства, чем только непосредственный и разделенный труд рабочих. Капитализм хорошо знает этот источник и широко пользуется им. “Поэтому тенденция капитала заключается в том, чтобы придать производству научный характер, а непосредственный труд низвести до всего лишь момента процесса производства”8 . Производство, в котором наука играет решающую роль, Маркс называл “научным производством”, отличая от фабрично-заводского, а мы сегодня именуем постиндустриальным. Там, где наука, “всеобщий труд” становится определяющим моментом производства, сводя непосредственный труд рабочих “к минимуму”, превращая его “во второстепенный момент по отношению к всеобщему научному труду”, меняется и характер собственности. Ведь соединение человека с знанием в процессе труда (в отличие от его соединения с вещественными орудиями труда) не может осуществляться по принципу частной собственности, поскольку наука не является объектом частного присвоения. Данная версия перехода к общественной собственности, проанализированная Марксом в подготовительных рукописях к “Капиталу”, несколько отличается от той, которую обычно излагают в качестве марксистской – через классовую борьбу, революцию, диктатуру пролетариата и насильственную экспроприацию. В отличие от первой политическая версия перехода к коммунизму представляется архаической и безнадежно устаревшей, хотя сам Маркс и пытался как-то сочетать их. Не революция и экспроприация, а развитие производства до уровня “научного” делает общественную собственность не только культурной, но и социальной реальностью.
И еще одно важное обстоятельство замена непосредственного труда рабочих “всеобщим трудом” приводит к резкому сокращению рабочего времени и увеличению времени свободного, т.е. “времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда”9 . Это время, которое человек тратит на образование, получение новой информации, на развитие своих способностей, короче, на производство самого себя. С развитием “научного производства” оно обретает значение главного фактора роста общественного богатства, ибо таким богатством становится сам человек. Его нельзя сводить лишь к времени отдыха и досуга; оно – время предельно напряженной творческой деятельности (потому его и не хватает людям свободных профессий). У людей, свободных от любого труда (например, безработных), нет ни рабочего, ни свободного времени они вообще выключены из общественного времени и живут только во времени физическом.
Жизнь человека в свободное время требует иных технологий, чем только экономическая и политическая. Она предполагает иную культуру труда и общения, иные способы взаимодействия и коммуникации людей. Проблемы новой рациональности, коммуникативного разума, экзистенциального общения, диалога и взаимопонимания, привлекающие к себе внимание современных философов, прямо связаны с задачей поиска такой технологии. Не все здесь ясно, но несомненно то, что вся современная культура работает в этом направлении. Выявленная когда-то Марксом тенденция перехода к научному производству, свободному времени, общественной собственности и пр., возможно, в иных терминах и понятиях фиксируется и современной мыслью, в том числе научной, которую никто не обвиняет в утопизме.
Приведу лишь один пример. У нас переведена книга немецкого христианского философа Петера Козловски “Культура постмодерна”. В ряде существенных моментов содержащийся в ней прогноз общественного развития поразительно схож с тем, о чем писал Маркс. Один из параграфов книги называется “Конец общества труда – начало общества культуры?”. Безосновательно относя Маркса к числу мыслителей, отождествлявших любой труд с отчуждением, т.е. проповедовавших внетрудовой образ жизни, Козловски вполне в духе Марксовых высказываний пишет “Освобождение человека от принуждения к физическому труду, достигаемое благодаря рационализации производства и организации труда, является новым шансом для самоосуществления человека. Разумеется, этот шанс менее всего связан с избавлением от труда, он состоит в избавлении от принудительного физического труда ради обретения свободы творческого труда”10 . И далее “С увеличением доли свободного времени и пауз на получение образования искусство, игра, наука и духовность, все богатства культуры займут значительное место в нашей жизни. Это дает особый шанс для философии и религии. Такое развитие могло бы означать конец модерна как общества, которое первоначально определено экономикой, и возврат к обществу, определяемому развитием религиозных, духовных и художественных его параметров. Без труда и экономики такое общество не могло бы жить, но труд в нем обретает духовную и игровую форму. Культура, философия и религия выполняют функции смысловой ориентации человека, насколько он не теряется в мире чистого потребления. Когда ослабевает давление проблем производства, тогда свободное время направлено на становление культуры и духовности. Таким образом, еще предстоит наступление часа культуры, философии и религии”11 . За исключением акцентирования роли религии в обществе постмодерна кажется, что все остальное написано Марксом.
История и для Маркса не завершается тем, что он называл капитализмом, а Козловски – “обществом модерна”. Для человека, мыслящего исторически, критически, а не догматически, в такой констатации нет еще никакого утопизма. Утопией такая констатация может казаться тому, кто находится в плену у настоящего, не видит дальше “собственного носа”. А вот понимание того, куда движется история, зависит от точности анализа сути и смысла происходящего. Такую науку – не описывающую, а объясняющую действительность, не конструирующую абстрактные модели, а выявляющую историческую ограниченность, обусловленность любой из них – и пытался создать Маркс. Она не порывает с эмпирической реальностью, но и не ограничивается ее позитивистской фиксацией, берет ее во всей сложности и полноте, в ее внутренней противоречивости и динамике. Познание настоящего, существующего есть для Маркса познание его как исторически существующего, т.е. заключенного в определенные рамки временного интервала между прошлым и будущим.
Сам Маркс достаточно точно описал особенности своего метода познания, названного им историческим. “…Наш метод, – писал он, – показывает те пункты, где должно быть включено историческое рассмотрение предмета, т.е. те пункты, где буржуазная экономика, являющаяся всего лишь исторической формой процесса производства, содержит выходящие за ее пределы указания на более ранние исторические способы производства… Эти указания наряду с правильным пониманием современности дают в таком случае также и ключ к пониманию прошлого… С другой стороны, это правильное рассмотрение приводит к пунктам, где намечается уничтожение современной формы производственных отношений и в результате этого вырисовываются первые шаги преобразующего движения по направлению к будущему. Если, с одной стороны, добуржуазные фазы являются только лишь историческими, т.е. уже устраненными предпосылками, то современные условия производства выступают как устраняющие самих себя, а потому – как такие условия производства, которые полагают исторические предпосылки для нового общественного строя”12 . В результате такого подхода любая общественная форма перестает мыслиться как естественная, вечная, осознается как исторически особая и преходящая, а значит заключающая в себе ключ к пониманию прошлого и будущего. Вместо того, чтобы превращать Маркса в подобие Гегеля и Конта с их общими законами мировой истории, Карл Поппер лучше бы прокомментировал данное высказывание Маркса, свидетельствующее о прямо противоположном. “Историческое рассмотрение предмета”, на котором настаивает Маркс, в равной мере отвергает и “некритический позитивизм” с его фетишизацией наличной действительности, и вненаучную “морализирующую” критику, апеллирующую к вечным ценностям и законам. Но тем самым оно отвергает и утопию, конструирующую идеальное общество, согласно этим ценностям.
Разве можно оспорить очевидный и вполне эмпирический факт господства денег и капитала в современной экономической действительности? Столь же невозможно оспорить и то, что люди, представляющие в обществе культуру в ее высших образцах, никогда не примирятся с властью над собой не только государства, но и денежного богатства. Но именно такую власть марксизм и сделал предметом своей критики (подобно тому, как либерализм подверг критике всевластие государства). И как либерализм означает не уничтожение государства, что является анархической утопией, а лишь его перевод в правовое пространство, так и марксизм (вопреки его первоначальной – радикальной и революционной – версии), будучи освобожден от всех еще содержавшихся в нем утопических элементов, требует не отмены денег и рыночного хозяйства, а всего лишь максимально возможного на данный момент расширения рамок индивидуальной свободы, находящейся “по ту сторону” экономической необходимости. И никакая это не утопия, а констатация того, что уже давно поставлено на повестку для развитием современной цивилизации.
Список литературы
Манхейм К.Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 167.
Там же. С. 168-169.
Там же. С. 209.
Там же. С. 219.
Там же.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 184.
Там же. С. 183.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 2. С. 206.
Там же. С. 221.
Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. С. 150.
Там же. С. 153.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 449.