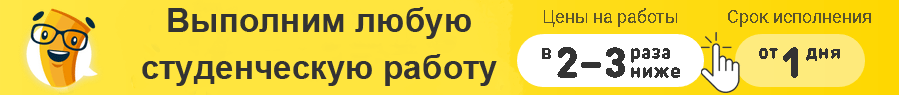Лингво-семантическая альтернация в символизме
(на примере цикла Максимилиана Волошина Облики»)
А. Чех
Введение
Проблема невербальной коммуникации традиционно занимает специалистов самой разной направленности. С глубокой древности мистики Востока декларировали бесполезность слов для передачи и получения высшего психического опыта «Знающий не говорит. Говорящий не знает [ 1].» Однако же, все главные духовные школы оставили основы своих учений в текстах. Точно так же, конспирологи Запада тщательно изучали и разрабатывали возможности «говорить не говоря». И для тех, и для других передача сообщения в словах помимо слов — придание слову скрытого или эзотерического значения — было проблемой величайшей практической важности. Если угодно, на Востоке это давало ключи от Царства Небесного, на Западе — влияло на судьбы царств земных.
Рассматривая художественно организованную речь и, тем самым, факторы, придающие тексту — помимо всевозможных, прямых и переносных, значений — эстетическое содержание, можно констатировать, что никогда в западной литературе дистанция между обыденным смыслом слов и их художественным насыщением не была столь демонстративно велика, столь принципиально значима, как в эпоху символизма, не говоря уже о том, что обыденного смысла многие символистские произведения попросту не имели [ 2]. А с точки зрения иных стилевых направлений они могли казаться бессмыслицей [ 3].
И даже в идеальном случае, когда символистское стихотворение могло читаться как «просто» художественное произведение, оно являлось к тому же лишь знаком-указателем на некое иное содержание, нежели то «общее», что непосредственно присутствовало в его тексте.
Природа и способы осуществления этой символизации уже более века служат предметом размышлений и изысканий учёных весьма различных областей знания. Что и не удивительно ведь явление это далеко выходит за рамки литературы и даже искусства. «Символизм меньше всего литературное течение» [ 4] — в таких словах общее мнение сформулировала Марина Цветаева в очерке об Андрее Белом. Владислав Ходасевич, пишет в мемуарной заметке о героине драматического эпизода жизни того же А. Белого «Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Всё время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда…» [ 5].
Естественно, что сама эта связь означающего — символистского произведения — и означаемого — стоящего за его явными рамками содержания — имеет исключительно сложный характер. Частично объективно-конвенциональный, позволяющий почти любому читателю стихов или прозы такого рода почувствовать, что «здесь прошёлся загадки таинственный ноготь» [ 6]. Частично — неопределённо-субъективный, из-за чего один и тот же читатель в иное время, в другом, чем прежде, состоянии, прочтёт совершенно иначе один и тот же текст. И нельзя даже сказать, что «скелет» символизации принадлежит герменевтике, а «нервные волокна» — психологии. Осуществление этой связи, содержательное восприятие символистского произведения есть каждый раз процесс, начинающийся на новой отправной точке и потому приводящий к непредсказуемому заранее результату от недоумения до потрясения. Стoит подчеркнуть, что авторы-символисты вполне допускали весь спектр реакций.
Безнадёжно ставить задачу полного и исчерпывающего прочтения даже отдельного символистского произведения, раскрытия «механизма» символизации — ибо произведение неисчерпаемо, а связь не механистична. Однако тот объективный элемент, который предполагается природой символистского произведения (а направления искусства, исключающие таковой и апеллирующие к чистой субъективности, возникнут позже), можно и должно изучать. Поэтому цель настоящей работы — на примере лирического цикла Максимилиана Волошина «Облики» показать некоторые возможности символизации, амбивалентные тем, что указаны в работах В. М. Жирмунского и его школы.
2. Символ в концепции В. М. Жирмунского
Первыми исследователями символизма были сами символисты. Огромная эрудиция, блестящая философская культура и настоящая научная увлечённость Иннокентия Анненского, Вячеслава Иванова, Андрея Белого и других корифеев символизма никогда не оспаривались учёными позднейшего времени. Однако бесспорно и другое изучение явления в рамках самого явления, кроме важных и очевидных преимуществ, имеет и существенные недостатки очень многое принимается как не требующее доказательств, зачастую желаемое выдаётся за действительное, а нежелательное игнорируется, личные отношения художников-современников искажают научную парадигму и т. д.
Поэтому систематическое изучение символизма, проводившееся прямыми преемниками той эпохи — филологами следующего поколения, может считаться началом собственно научного подхода ко всему, что мы называем этим словом.
Здесь прежде всего следует назвать работы В. М. Жирмунского, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и других учёных петербургской школы, причём наследие первого из названных не только выделяется эстетической чуткостью и филологической фундаментальностью, но и — пожалуй, уже можно это утверждать — прошло проверку временем с наименьшими издержками.
В. М. Жирмунский определил символ в работе «Метафора в поэтике русских символистов» (июнь 1921г.) так «Символ есть частный случай метафоры — предмет или действие (то есть обычно существительное или глагол), взятые для обозначения душевного переживания» [ 7], предварив его замечанием «Символизм как поэтическое направление получил своё название от особого вида метафоры». В том же году он воспроизвёл эту формулировку почти буквально в статье «Поэзия Александра Блока» «Мы называем символом в поэзии особый тип метафоры — предмет или действие внешнего мира, обозначающие явление мира духовного или душевного по принципу сходства [ 8].»
Чрезвычайная ясность и простота, а также бесспорная содержательность этого определения позволили ему закрепиться надолго. Сошлёмся лишь на один пример в юбилейном сборнике к 100-летию со дня рождения Александра Блока опубликована статья З. Г. Минц «Символ у Блока» [ 9], где это центральное понятие вполне соответствует определению Жирмунского — а ведь между двумя публикациями лежит шестьдесят лет!
Отчётливо просматривается концепция В. М. Жирмунского (см. выше его уточняющее замечание «…обычно существительное или глагол») и у Ю. М. Лотмана, который продолжает считать символ прежде всего словом «Отсюда их (символистов) стремление превратить слово в символ… В центре символистской концепции языка — слово… Само слово ценно как символ — путь, ведущий сквозь человеческую речь в засловесные глубины…» [ 10] Определение Жирмунского и здесь остаётся в силе. Правда, возникают и не слишком внятные оговорки «…Поскольку всякий символ — не адекватное выражение его содержания, а лишь намёк на него, то рождается стремление заменить язык высшим — музыкой», и замечательные догадки «С одной стороны, семантика выходит за пределы отдельного слова — она «размазывается» по всему тексту. Текст делается большим словом, в котором отдельные слова — лишь элементы, сложно взаимодействующие в интегрированном семантическом единстве текста стиха, строфы, стихотворения. С другой — cлово распадается на элементы, и лексические значения передаются единицам низших уровней морфемам и фонемам.» [ 11] К сожалению, и оговорки, и догадки лишают определение его главного достоинства ясности.
Разумеется, это не случайно. Нет сомнения, что и сам В. М. Жирмунский, с известной полемической остротой отставляя в сторону всю символистскую апологетику, мистические и агностические представления символистов, прекрасно понимал, что «особый вид метафоры» — это далеко не всё, что несёт в себе символ. Ограниченность его формулировки давала себя знать с самого начала.
В первую очередь, с точки зрения стилистики. Говоря «поэтом символов по преимуществу является в современной русской лирике Александр Блок» [ 12], учёный в статье того же года пишет «Блок — поэт метафоры. Метафорическое восприятие мира он сам признаёт за основное свойство истинного поэта, для которого преображение мира с помощью метафоры — не произвольная поэтическая игра, а подлинное прозрение в таинственную сущность жизни [ 13].» Прямого противоречия нет, но смещение акцентов налицо. Примеров «просто» метафорического мышления у Блока и Брюсова, с большим искусством раскрываемых Жирмунским, десятки, тогда как собственно «метафора особого рода», символ, от рассмотрения ускользает. Ещё заметнее это ускользновение в работе З. Г. Минц, фактически рассматривающей символ лишь у раннего Блока, а по отношению к зрелому творчеству поэта формулирующей обескураживающий вывод «автополемика с «высокой» мистикой «Стихов» о Прекрасной Даме» привела не только к созданию образов-реалий или иронических и трагических «антисимволов». Наиболее очевидным следствием эволюции мировосприятия была также замена символизма метафоризмом (открытая условность метафоры сменяет мистическую реальность символа) и фантастикой (условность фантастической ситуации сменяет мистическую реальность мифа) [ 14]. Здесь же сделанное заявление «основным для его пути будет восстановление символизма и мифологизма» — не находит подтверждения в статье, поскольку позднее творчество Блока трактуется в категориях образа, пути, стихии и страсти, концепции мира и т. д.
Более раннюю работу (1916 года) В. М. Жирмунский начинает словами «Три поколения поэтов-символистов мы можем различить в истории поэтического искусства за последнюю четверть века, и, соответственно этим поколениям, три волны символизма… Мы обозначим эти поколения именами поэтов-зачинателей первое — именем Бальмонта и Брюсова, второе — Вячеслава Иванова, Андрея Белого и Александра Блока, третье — именем Кузмина. За каждым из вождей стоит целый ряд поэтов и писателей второстепенных…» [ 15]. Здесь многое вызывает недоумение. Вячеслав Иванов старше Бальмонта и Брюсова, не говоря уж о названных выше «сверстниках». Михаил Кузмин старше Белого и Блока. Следовательно, речь идёт не о поколениях поэтов — но о чём же? Далее, можно понять, почему «представителем третьего поколения символистов мы назвали Кузмина» это поэт, сохранивший значительное присутствие вполне символистских поэтики и сознания, и не спешил символизм преодолевать. В этом смысле — да, можно признать подобных поэтов — пусть они принадлежат к совершенно разным поколениям — «третьим коленом» символизма, назвав в их числе Арсения Тарковского, Юрия Кузнецова, Ивана Жданова… Но чуть дальше читаем «Мы можем назвать Кузмина последним русским символистом» [ 16]. Где же следующий за родоначальником третьего поколения «целый ряд второстепенных поэтов и писателей»? В работе, вышедшей четырьмя годами позднее, В. М. Жирмунский раскрывает его как… круг акмеистов! И, подтверждая, что «его поэтическим родоначальником был М. А. Кузмин», автор говорит о нём самом как о направлении, «в самой основе своей порвавшем с заветами символистов» [ 17]. Вот так, не третье поколение символистов, а их поэтические антиподы… Ясно, что причина этой радикальной смены оценки кроется не в какой-то «ошибке» или заблуждении В. М. Жирмунского, а в самой природе его концепции стилистической индифферентности определения символа как особого вида метафоры.
Во-вторых, с историко-культурной позиции. Сопоставляя символизм и акмеизм, учёный пишет «В этом столкновении двух литературных поколений мы усматриваем не случайное состязание двух незаметных и неинтересных литературных клик, а глубочайший перелом поэтического чувства, быть может, ещё более глубокий, чем переход от лирики восьмидесятых годов к искусству символистов. Бальмонт продолжает традицию Фета; Блок внутренне связан с лирикой Вл. Соловьёва. Напротив того, Бальмонт и Кузьмин, Блок и Ахматова, случайные современники, часто близкие по поэтическим темам, принадлежат существенно разным художественным мирам, представляют два типа искусства, едва ли не противоположных. [ 18]» Дело здесь не в сравнительной глубине того и другого перелома, поскольку, возвращаясь к тем же именам значительно позже, В. М. Жирмунский пишет «В своё время неоднократно замечали сходную творческую перекличку молодой Ахматовой с Иннокентием Анненским, которого акмеисты почитали как своего учителя. [ 19]» К числу авторов, традиционно относимых к символистам и при этом в достаточно характерных чертах предвосхищавших «искусство противоположного типа», можно было бы назвать и другие имена; не говоря уж о том, что «доакмеистский» Городецкий явно наследовал символизму — о Кузмине сказано выше. Обратим внимание на другой момент, подчёркивавшийся В. М. Жирмунским неоднократно [ 20] символизм являлся лишь закономерным следствием развития романтизма, не дав ничего существенно нового; радикальное обновление поэтического языка и взгляда на мир произошло как раз у его младших современников. И действительно, символ по Жирмунскому — это фактически досимволистский символ, веками бытовавший и в народной песне, и в религиозной литературе (литургической поэзии и даже мистической лирике) [ 21].
В-третьих, чисто аналитически. Сошлёмся на пример известного стихотворения «преодолевшей символизм» Анны Ахматовой
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…
Здесь налицо полное соответствие с определением Жирмунского во внешнем, вполне предметном, действии выражается душевное явление. Но, разумеется, никакого символа нет и в помине несообразный жест выражает лишь крайнее смятение героини и потому не содержит в себе ничего такого, что превосходно описывал сам Жирмунский в связи с поэзией Блока «двойной реальности», переживания бесконечности и т. д.
Возможны и другие подходы. Так, Ю. В. Шатин, адресуясь к концепции Ю. М. Лотмана в её семиологической форме, показывает её системную незавершённость, восполняемую тем, что автор называет «символом третьего порядка» [ 22].
3. Лингво-семантическая репетиция
Что же по-настоящему ценно в определении символа В. М. Жирмунским? Оно позволяет установить и вполне убедительно проследить механизм символизации, свойственный, в первую очередь, А. Блоку. Говоря о нём, Жирмунский пишет «его поэтическая речь — это язык привычных иносказаний, как бы словарь условных таинственных знаков, которым он пользуется с исключительным искусством для выражения в поэтических символах мистических переживаний, не передаваемых в логически точных словах поэтического языка. Читая его произведения, мы можем составить себе такой словарь метафорических образов «ночь», «мрак», «туманы»… [ 23] и т. д. «В поэзии Брюсова метафора-символ гораздо более шаблонна и неподвижна» [ 24]. Это же алфавитоподобие системы символов подчёркивает и З. Г. Минц «Сама система символов у юного Блока, их значения, способ их введения в текст вполне традиционны… Блок позднейших лет, поэт уже ярко раскрывшегося оригинального поэтического дарования, очень часто использует те же символы, или, по крайней мере, те же смысловые и грамматические модели символообразования… Блок-поэт в 1909 году использует формально ту же символику, что и в 1899 году…» [ 25].
Способ придания слову символьной природы, описанный В. М. Жирмунским и принятый с известными вариациями у З. Г. Минц (с. 182-184), можно схематически описать так. Для каждой «действующей величины», как раз и являющейся значением символа, вводится круг слов — если не синонимов, то хотя бы допускающих сближение и в обыденной речи «Дева, Заря, Купина…» [ 26] — представители которого становятся заместителями символа в каждом месте текста, где его присутствие определяется лирическим сюжетом. Сами эти слова-заместители в принципе эквивалентны (что особенно удобно в стиховой метрике), но используются с учётом тех поэтических эффектов, которые приносит общепринятый смысл выбранного слова в конкретном месте текста. Образование символа происходит в результате сложной смысловой корреляции в одном стихотворении и целом их ряде, когда эти слова-заместители опознаются как представители единой символьной целостности, примерно так же, как в обыденной речи устанавливаются слова-синонимы. При этом каждому из них, включённому в общую семантическую цепь с остальными, сообщается природа символа.
То же самое слово может возникнуть в новом контексте; в прежнем или близком контексте могут появляться разные слова — именно так и составляются символьные ряды. Однако одно из тождеств должно иметь место либо повторяется слово — и происходит лингвистическая репетиция — либо воспроизводится «ситуация», контекст, та смысловая предпосылка, которая предполагала бы употребление прежнего слова, но в которой на сей раз ставится новое — семантическая репетиция. Разрыв обеих цепей в процессе порождения одного и того же символьного ряда создавал бы лакуну и либо требовал бы восполнения в каких-то следующих текстах, либо ставил под угрозу результат символ, не обретя внутреннего единства, мог оказаться внешне неопознаваемым.
Из сказанного можно сделать вывод, что определение символа как особого рода метафоры, естественно дополняясь таким художественным методом порождения, вместе складываются в концепцию, отражающую существенные стороны символизма Блока и других поэтов (ещё раз подчеркнём, что здесь он был представлен лишь схематически).
Но, как десятки раз подчёркивает Жирмунский, и сам символ, и способ символизации носят глубоко индивидуальный характер. Если его концепция символа построена на основе художественного опыта Блока и Брюсова [ 27], то какие ещё конструкции символа возможны и были реально представлены в литературной практике символизма?
Прежде всего, как проявлял себя в ней упоминавшийся выше символ третьего порядка, строящийся не на основе слова, а на основе образа [ 28]?
Попробуем проиллюстрировать это на примере цикла М. Волошина «Облики», содержащемся в авторской рукописи книги «Selva Oscura» [ 29], которая включала в себя стихи, написанные в 1910-915 годах. Тем более, что грандиозный ансамбль «Тёмного леса», представляющий полномасштабную картину мира природы, культуры и в них — человеческой личности, в блоковском творчестве можно сопоставить разве что со всей «трилогией вочеловечения» в целом, не имея в виду каких-либо ценностных сравнений и расстановок приоритетов.
4. Архитектоника цикла М. Волошина «Облики»
Как известно, цикл «Облики» представлял собой III-ий раздел этой так и не вышедшей книги. Всего же по замыслу автора она содержала шесть разделов.
Первый — это цикл «Блуждания», состоящий из 25 стихотворений огромного интонационного диапазона, драматического напряжения и культурного насыщения; его отправная точка — острое переживание разрыва с лирической героиней. Вероятно, биографически это соответствует резкому охлаждению в отношениях с Е. И. Дмитриевой, что психологически накладывается на не столь давнее расстройство брака с Маргаритой Сабашниковой. Разрыв этот переживается как смерть лирического я, некой вполне сложившейся на момент разрыва персональной целостности — и выход в огромный, дотоле неведомый мир. Блуждания в нём не добровольны — но спасительны. По мере развёртывания цикла образующие его стихотворения, апеллируя к величайшим творениям древности «Бхагавад-Гите», текстам Платона и Порфирия и одновременно с этим выражая собственные прозрения поэта, показывают лирического героя цикла (а в какой-то мере и самого автора) воскресающим как «космического человека» в этом новом, грандиозном масштабе.
Второй раздел — «Киммерийская весна» — это не просто декорации воскресения. Двадцать стихотворений о восточном Крыме и Коктебеле составляют изумительную череду картин земли, весенняя юность которой неотрывна от её исторической древности, многочисленные детали пейзажа — от обилия вызываемых ими чувств и мыслей. Некоторая условность бытийного масштаба, возникшего в «Блужданиях», здесь обретает конкретное земное содержание. У этого тоже есть ясная биографическая проекция Волошин после многих лет странствий вернулся в Коктебель, ставший отныне его домом. А также, благодаря замечательным свойствам волошинской натуры, домом отдыха и творчества многих замечательных представителей двух поколений художественной интеллигенции.
Поэтому третий раздел — «Облики» — естественно читается как своеобразная портретная галерея его коктебельских гостей. «Этот цикл — одно из выражений пристального внимания Волошина к окружающим его людям, его стремление увидеть «лик» каждого» [ 30], — пишет В. П. Купченко, составитель и комментатор ряда изданий волошинских произведений. Конечно, отчасти так оно и есть. Бросается в глаза, как часто поэт описывает с явно портретными эпитетами руки, веки, щёки, пластику рта… Однако далеко не все портретируемые побывали у Волошина в Крыму, не все «портреты» вообще являются портретами… Что же, скорее, представляют собой «Облики», если не картинную галерею? Об этом мы поговорим чуть позже, закончив мысленное перелистывание неизданной книги.
Четвёртый раздел, «Пляски» очень короток три стихотворения, в энергичных короткострочных ритмах которых проносятся как бы в быстром танце многие образы из числа тех, что уже появлялись в прежних разделах. Казалось бы, автор просто избегает прямого выражения мысли, не блещущей особой свежестью герои и героини, их победы и поражения, периоды смертельной меланхолии и экстаз озарений — всё это лишь некоторый танец пред ликом вечности земли,- не лишённый ни драматизма, ни глубины — но всё же не более, чем ритуал. Что же стоит за ним и движет им, в чём его суть, под какую музыку идут пляски?
Об этом — и многом другом — пятый раздел венок сонетов «Lunaria», одна из вершин волошинского поэтического эзотеризма. Использовав в качестве магистрала несколько изменённый сонет «Луна», написанный за шесть лет до венка и посвящённый Бальмонту, Волошин со впечатляющей быстротой — за две недели! — развернул его в четырнадцати сонетах, где огромное количество реалий, связанных с древними хтоническими культами, получает необычайно экспрессивную психологическую интерпретацию.
Шестой же раздел книги — это единственное стихотворение «Подмастерье», написанное к тому же строгим белым стихом. Однако, эта внешняя скромность, резко контрастируя с экстра-виртуозностью венка (а счёт русских венков в тот момент шёл на единицы!), как раз и создаёт высочайшую сосредоточенность на содержании, достойном увенчания всей книги. Поэт формулирует идеал личной эволюции и, по-видимому, именно здесь находит principium poeticum «Путей Каина», итога своей творческой жизни.
Ещё раз отметим кажущееся противоречие между «скромностью» портретной галереи и положением её в центре книги между монументальными поэтическими циклами. Не являются ли «Облики» просто паузой в развитии мощных поэтических импульсов?
Уже первое прочтение цикла производит прямо противоположное впечатление, перекликающееся с целым томом «Ликов творчества» [ 31]. Неправдоподобное богатство культурных реминисценций [ 32], яркость и точность психологических характеристик, огромный динамический диапазон от затаённого шёпота до экстатического заклинания — всё вместе складывается в картину огромной насыщенности и многообразия. Не без труда и, возможно, далеко не сразу в этом карнавале стремительно сменяющихся красок усматривается некое единство.
Что можно заметить уже «невооружённым взглядом»?
В цикле явно просматриваются две «неравные половины», две галереи женская и мужская; женская включает в себя двенадцать стихотворений, мужская — только четыре; между ними располагается три стихотворения со «смешанным представительством»; наконец, в завершение цикла помещается тандем сонетов «Два демона».
Женская галерея делится на две части в первой четыре условных портрета, за которыми следует два любовных монолога от лица женщины так сказать, имитации автопортрета. Схожим образом построена «вторая зала» четыре портрета (на сей раз безусловных, в каждом из которых вполне узнаваемо конкретное лицо) и два монолога, обращённых к женщинам.
Эта вступительная «женская зала» и позволяет сразу отвести мысль о портретной галерее как главной идее цикла. В самом деле, первое стихотворение если и может рассматриваться в этом роде — то как «портрет» шекспировской Порции, героини «Венецианского купца» [ 33]. Второе, третье и четвёртое стихотворения картинны, но не портретны индивидуальный характер в них только намечен, зато чрезвычайно насыщен фон, как предметный — тот, на котором «позирует» героиня — так и культурный, воспринятые ею типажи и поведенческие нормы; впрочем, это последнее напоминает характерный тип портрета того времени, когда знаменитый актёр или актриса изображались в одной из своих коронных ролей, в гриме и часто на фоне соответствующих декораций [ 34].
А пятое и шестое стихотворения-монологи ещё больше акцентируют этот ролевой характер не просто речь влюблённой женщины, но именно героини некой восточной сказки, ибо реалии «Тысяча и одной ночи» шатёр, верблюд, дворец — почти оттесняют все остальные; зато роскошь обстановки и подчёркнутая экзотика страстности вполне органично соединяют их с первой четвёркой.
Безусловная, именная портретность «второй залы» составляет яркий контраст к условности первой. Так же контрастирует с пышными квазиисторическими декорациями первой и легко опознаваемый коктебельский фон (одиннадцатое стихотворение — больше крымский пейзаж, чем портрет, но, конечно, «пейзаж души»). Однако слишком резкого противопоставления двух «зал» при чтении не ощущается скорее, вторая читается как уточняющее продолжение — своего рода наводка на резкость — первой; и, помимо очевидного часто вспыхивающих ассоциаций с образами классического искусства — как мы скоро обнаружим, обе фазы связывает очень многое.
Переходная триада стихотворений открывается автопортретом, но весьма своеобразным. Так же, как мы говорили о жанре первой женской залы как о портрете героини в некой экзотической роли, так же и здесь автор «узнаёт себя в чертах Отриколийского кумира», бюста Зевса из Отриколи. Собственно, портретные функции исчерпываются тем, какие именно мифологические мотивы возникают в стихотворении, к каким проявлениям бога чувствует причастность герой-автор. Зато имена Семелы, Леды и Данаи как раз и апеллируют к уже показанным полумифическим ролям. Как мы увидим позже, именно в этом стихотворении прямо высказывается основная идея всего цикла, однако в первом слое оно лишь продолжает тему
Следующие далее стихотворения-обращения имеют конкретных адресатов, указанных в качестве заглавия «М. С. Цетлин» и «Р. М. Хин» — но никак не претендуют быть портретами. Первое из них начинается с описания фона портрета Марии Самойловны Цетлин… работы Серова — и сводится к тому весьма насыщенному историко-политическому фону, на каком она же видится Волошину; однако, о самой портретируемой — ни слова. Примерно то же можно сказать и о следующем посвящении. Это и в самом деле галерея ряд афористических портретов, сначала — французских писателей — по-видимому, любимых авторов Р. М. Хин [ 35], затем — её знаменитых посетителей; о хозяйке кабинета сказано не более, чем о каждом из её гостей. Пожалуй, можно констатировать определённую ролевую симметрию между автопортретом тринадцатого стихотворения, где герой «в Зевесовом облике» окружается несколькими мифическими героинями, и этим, где женщина-адресат находится в памятном обществе блистательных мужчин.
По существу, «мужская галерея» не только подготовлена одним этим стихотворением, но в значительной степени и содержится в нём. Четыре следующих стихотворения дают образы только двух людей В. Ропшина и Константина Бальмонта.
Такой своеобразный выбор портретируемых объясняется двумя мотивами, мало связанными между собой. Во-первых, чисто биографически сближение Волошина с Борисом Савинковым произошло в обществе Бальмонта [ 36]. Во-вторых, есть немало общего и в самих этих людях. Конечно, В. Ропшин -литературный псевдоним Б. Савинкова — несопоставим с «безраздельно царившим в русской поэзии» [ 37] Бальмонтом — но он является всё же писателем значительным и оригинальным. Точно так же и роль Бальмонта в революционной борьбе несопоставима с ролью Савинкова — однако и Бальмонт был не чужд политического экстремизма, исключался из гимназии и университета за участие в революционных кружках; а в 1904 году, накануне политической высылки из России, его имя стояло в одном ряду с именами Л. Толстого и М. Горького, олицетворяя оппозицию художника царизму.
Итак, портрет В. Ропшина, вызвавший недоумение у самого Бориса Викторовича,- и «триипостасный» портрет Бальмонта собственно «Бальмонт», где поэт «вышел очень похож» [ 38] — по-видимому, в самом обычном смысле, затем «Напутствие Бальмонту» — образ Бальмонта-путешественника по морям Земли, «морям времён» и морям души; наконец, посвящённый Бальмонту «Фаэтон», где и остро драматический эпизод биографии поэта, и сам его облик переосмыслены в мифологическом ключе [ 39]. Для полноты картины отметим, что Бальмонт пройдёт ещё один раз «в титрах» сонет, заключающий цикл, написан Волошиным в «сонетическом» состязании с ним на тему «радуга».
Такое щедрое представление друга и собрата биографически легко объяснимо; но, с другой стороны, единый прототип предстаёт в трёх весьма различающихся обликах — и этим переходом в ролевой план создаёт арку-симметрию к первой «женской зале».
И завершают цикл сонеты «Два демона». Разумеется, ни о какой портретности тут нет и речи. Знаменитые полотна Врубеля, посвящённые этой теме, казалось бы, не могли не повлиять на её представление в стихах — однако, воздействие это осталось под спудом. По существу, волошинские демоны, «соседствуя» с человеком в мироздании, задают своего рода границы для мира людей первый «живёт» на грани материи и сознания вблизи вещества, в «механике» самого разного смысла слова; второй — Прометей, «обитающий» в предельных дерзания человеческой души и олицетворяющий её неутолимые потребности. Пожалуй, здесь впервые столь явно просматриваются и тема, и пафос будущей книги поэм «Путями Каина» — а их форма, как уже говорилось, прямо предвосхищается в завершающем книгу «Подмастерье».
Но следует отметить и антитезу «Обликов» — горестные сатиры небольшого цикла «Личины», вошедших в книгу «Неопалимая Купина» [ 40].
5. Лингво-семантическая альтернация
Итак, почти нет сомнения, что наряду с выражением «пристального внимания Волошина к окружающим его людям» (см. сноску [ 27]) цикл «Облики» несёт в себе нечто иное, и — как бы ни были достойны всяческого внимания многие в волошинском кругу, люди действительно замечательные — содержание его значительно богаче и глубже. Естественно, возникают два вопроса всё же, в чём его суть, насколько о ней можно сказать в словах — и какие средства позволяют автору значительно увеличить смысловую перспективу и сделать «Облики» вполне символистским циклом? Поскольку оба они взаимосвязаны, то, отвечая на второй из них, более «технический» и, тем самым, отчётливо уловимый, мы подойдём и к тому, чтобы что-то сказать о первом.
Если символ раннего Блока возникал из лингво-семантической репетиции, то здесь у Волошина мы наблюдаем прямо противоположное.
Во-первых, множество схожих мотивов переходит из стихотворения в стихотворение, избегая прямых повторений словесного выражения. Постоянно возникает чувство, что автор говорит об одном и том же, но другими словами. Суммарное же впечатление не может быть прямо выражено никакими словами все они ходили вокруг да около, лишь очерчивая зону содержания,- которое тем самым становится символом более высокого порядка, чем «метафора особого вида». Естественно говорить об этом как о лингвистической альтернации.
Во-вторых, для употребления автором одного и того же слова здесь характерно придание ему разных смыслов (т.е. автор фактически пользуется омонимами), либо его включение в различные, иногда прямо противоположные контексты. Это, в свою очередь, следует назвать семантической альтернацией.
Одновременное использование обоих приёмов создаёт исключительное богатство возможностей. Неизбежно возникающее поначалу чувство некоторой зыбкости значений и состояний исчезает при достаточном углублении в поэтический мир «Обликов». И хотя, как уже много раз подчеркивалось, содержание волошинских символов не может быть передано вербально, кое-что об этом «несказуемом» мы всё же попытаемся сказать. Тем более, что автор вовсе не стремится ни к какой эзотеричности, никакой нарочитой затемнённости высказывания — «указатели» расставлены им достаточно подробно.
И уже первое стихотворение начинается с такого указателя (а дальше они расходятся веером)
В янтарном забытьи полуденных минут
С тобою схожие проходят мимо жёны…
Есть некто, обозначенная местоимением ты и характеризующаяся через сквозящую схожесть то с той, то с другой из проходящих мимо жён. Именно ради этого и разворачивается галерея женских образов. «Фанфары Тьеполо и флейты Джорджионе», «твой лик», сияющий «на фоне Ренессанса», подводят прямо — ко второму и четвёртому стихотворениям, опосредованно — к восьмому к «картинам» в духе живописи Возрождения с непременным присутствием библейских мотивов; «на дымном золоте испанских майолик, на синей зелени персидского фаянса» появятся вскоре героини «восточных сказок» пятого и шестого стихотворений. Ещё любопытнее разворачивается трёхстишие
…Проходишь ты, смеясь, меж перьев и мечей,
Меж скорбно-умных лиц и блещущих речей
Шутов Веласкеса и дураков Шекспира.
Уже в следующем стихотворении «твой взгляд несут в себе и помнят зеркала, картины и киоты. Смотрят в душу строгие портреты…» Но подробным раскрытием этого мотива является, по существу, всё пятнадцатое стихотворение, «кабинет Р. М. Хин». Именно там один за другим возникают и «смотрят в душу» портретные лики великих французских писателей, а затем «волнует эхо здесь звучавших слов» выдающихся представителей русской культуры, пусть даже «закрепить умолкнувшую речь» их невозможно. И если во вступительном стихотворении эффектное мужское окружение оказывается только фоном «шутов» и «дураков» для центра — лика героини — то в пятнадцатом героиня «вокруг себя объединила» не просто мужчин вторых ролей, напротив «весь тайный цвет Европы и Москвы» — и не ради себя, а именно ради этих «огней былых иллюминаций». Такой сдвиг акцентов, разумеется, не случаен первым стихотворением открывается женская, пятнадцатым — мужская галереи.
Особенно же содержательным в первом стихотворении оказывается указатель на
…парков замкнутых душистые ограды
из горьких буксусов и плющевых гирлянд…
Именно он, как мы увидим, предуказывает освещение одного из двух главных символических комплексов; об этом позже.
Какие же главные символические линии прочерчиваются в связи с этой центральной фигурой? Укажем четыре из них, в значительной степени определяющие смысловое содержание женской галереи.
(1) Во-первых, буквально везде в женской галерее подчёркнута её культурная переполненность. Героиня буквально живёт в мире культуры — однако же, созданной мужчинами культуры. Поэтому так естественно единится в противоречиях эта её жизнь
Любишь ты вериги и запреты,
Грех молитв и таинства соблазна.
И тебе мучительно знакомы
Сладкий дым бензоя, запах нарда…
(2-е стихотворение)
Лукавых уст невинное бесстыдство…
Ты сочетала тонкость андрогины
С безгрешностью порочного цветка…
(3-е стихотворение)
Не успокоена в покое,
Ты вся ночная в нимбе дня…
(4-е стихотворение)
Чтобы не продлевать череды примеров, заметим, что в седьмом и восьмом стихотворениях героиня рисуется в сплошных антиномиях, доходящих до края возможного в земном мире «и ясновидящие руки, и глаз невидящий свинец…».
(2) Культура — и именно мужская — ей и жизненно необходима, и болезненно чужда. Последнее преодолевается — но лишь отчасти, не до конца-освобождения, а до ещё одной муки неразрешённого переполнения, странным смещением пола, особенно ярко выраженном в линии изощрённой чувственности. «Грех молитв и таинства соблазна» влекут за собой «мучительно знакомые» впечатления «тонкость рук у юношей Содомы, змийность уст у женщин Леонардо» — в тонкости, разумеется, откликается женственность, в змийности — мужское начало. Вскоре появляются «тонкость андрогины» «девичья грудь и голова пажа», затем «строгих девушек Гоморры любовь познавшие глаза»; последнее интересно отнюдь не примелькавшейся антиномичностью познания-любви, но строгостью в этом познании, что подчёркивается ещё и консонантной перекличкой Гоморры-мирры в рифменных клаузулах соседних катренов. Здесь же особенно любопытно то, насколько последовательно Волошин проводит принцип альтернации «девушки Гоморры», появляющиеся в четвёртом стихотворении, были бы формально только симметричны «юношам Содома» во втором; однако автоматизм сочетания «Содом и Гоморра» сделал бы такое упоминание скорее тавтологией, почти репетицией, нежели альтернацией; и вот во втором возникают «юноши Содомы» вместо ветхозаветного города Содома автор называет Содому — итальянского живописца XV-XVI веков.
Неудивительно, что героиня несёт в себе
Двойной соблазн — любви и любопытства…
Естественный соблазн — любви — к восхитительной девушке, и противоестественный — любопытства — к проглядывающему в ней же юноше-пажу. Паж промелькнёт и в героине десятого стихотворения; а мотив противоестественного соблазна пройдёт во втором смысловом слое в концовке тринадцатого стихотворения (в упоминании эпизода похищения Ганимеда). Наконец, в девятом стихотворении подмечено её сходство «с улыбающимся фавном»…
(3) Переполняющая героиню жизнь — пусть даже это «жизнь взаймы», в мужской культуре и, в известной мере, в эротической переимчивости черт противоположного пола — не обретает какой бы то ни было свободы и цельности. Линия замкнутости, стеснённости и духоты проходит сквозь «первую залу» женской галереи; а «печаль земного плена», по существу, является её доминантой. Уже цитированный указатель первого стихотворения «парков замкнутых душистые ограды из горьких буксусов и плющевых гирлянд…» немедленно уточняется вторым стихотворением, где героиня живёт «в молчаньи тёмных комнат», с одной стороны, и мучительности «сладкого дыма бензоя» и «запаха нарда» — с другой. Четвёртое стихотворение доводит аромат почти до удушья
Твои негибкие уборы…
…Глухой и травный запах мирры —
в свой душный замыкают круг…
И емлют пальцы тонких рук
Клинок невидимой секиры.
Тебя коснуться и вдохнуть…
Узнать по запаху ладоней,
Что смуглая натёрта грудь
Тоскою древних благовоний.
В шестом стихотворении героиня говорит о себе «В пещере твоих ладоней маленький огонёк», героиня седьмого оставляет в памяти «запах ладана в душистых волосах». Во второй «коктебельской» зале чувство стеснённости и удушливость аромата слабеют, растворяясь на широких ландшафтах природы… Разве что в девятом стихотворении вдруг возникнет видение прежней стеснённости на условном фоне живописного полотна, но не живой природы
Я ваш ли видел беглый взгляд
И стан, и смуглые колена
Меж хороводами дриад
Во мгле скалистых стран Пуссена…
Слабое последействие того же ощущения сохраняет и портрет в десятом «…Волною прямых, лоснящихся волос прикрыт твой лоб… Твой детский взгляд улыбкой сужен…» Наконец, в одиннадцатом, очень «ароматическом» стихотворении будет «под ногами млеть откос лиловым запахом шалфея» — «и ты изникнешь, млея, тая, в полынном сумраке долин…» В открытых пространствах пейзажа останутся лишь немногие черты прежней замкнутости. Будет «в глубине мерцать залив», увиденный к тому же
В седой оправе пенных грив
И рыжей раме гор сожжённых…
А далее «тебя проводят до ограды коров задумчивые взгляды…»
(4) Однако четвёртая линия — слабость, нестойкость огня и света с преобладанием дыма (в том числе и ароматического) — главный признак замкнутости пространства — сохраняется на всём протяжении женской галереи. Даже портретные и памятные образы блистательных мужчин в кабинете Р. М. Хин (15-е стихотворение) — это только «погасшие огни былых иллюминаций». Уже в первом стихотворении не «блещущие речи» мужчин служат фоном для «твоего» сияющего лика, а «дымное золото испанских майолик». Второе тотчас же подхватывает этот мотив в «тусклой позолоте», и «сладком дыме бензоя». В третьем он уже значительно альтернирован сначала появляется «пламя мятежа», заранее сникшее «в быстрых пальцах», а затем — «грусть огней», пусть даже «на празднествах Рамо». В героине четвёртого усматривается «тёмное и злое, как в древнем пламени огня». В пятом же эти мотивы задают основную тональность
Пламенный истлел закат…
Стелющийся дым костра,
Тлеющего у шатра,
Вызовет тебя назад…
Отметим, что слово дым здесь впервые возникает в буквальном смысле; позже оно прозвучит в «фоне без портрета» М. С. Цетлин как «Парижа меркнущие дымы…»
Далее эта линия подвергается существенному преображению. Огонь проявляет себя уже не дымом и тлением, а светом, притом с оттенком сакральности. В шестом стихотворении от лица героини произносятся слова
В эту ночь я буду лампадой
В нежных твоих руках…
…Маленький огонёк,
Я буду пылать иконней…
В седьмом уже к ней обращены вопросы
Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно?
Лампада ль тайная? Смиренная свеча ль?
Однако же главный акцент, поставленный на «бесплодности», неустойчивости «огонька», сохраняется даже в совсем ином контексте девятого стихотворения, где в зрачках девушки замечается «послушливый и своенравный, весёлый огонёк».
Особенно интересна последняя альтернация, когда смысловой прицел, казалось бы, переносится в противоположную сторону. В восьмом стихотворении о героине сразу же говорится, что «безумья и огня венец над ней горел…», а первое, что характеризует её во втором периоде, это «пламень муки». Совершенно другой образ в десятом несёт схожие черты «над головою сиянье вихрем завилось», и вообще «ты бежала… вся в нимбах белого пожара». Однако и здесь в венце и нимбе дан знак огня, но не сам огонь; пылкость присуща не самой героине десятого стихотворения, а полудню её появления. Весьма показательны здесь как искусно скрытое снижение «тень золотистого загара на разгоревшихся щеках», так и консонантная перекличка рифменных окончаний соседних катренов пожара и миража.
И как нельзя более внятно завершает эту линию в женской её части завет последнего, двенадцатого стихотворения «Свети ему пламенем белым — бездымно, безгрустно, безвольно…»
Что же происходит в краткой мужской галерее?
Первая линия — культурного перенасыщения — продолжается, но при этом существенно преображается переносом акцента на творчество. Тем самым взгляд на мир как на созданное сменяется взглядом на него как на возможность созидания и пересоздания, как на подлежащее творению. Противоречивость, антиномичность присутствует и здесь, но как естественное «обстоятельство» творчества, как непосредственное проявление запредельного.
И, мечту столетий обнимая,
Ты несёшь утерянный венец.
Где вставала ночь времён немая,
Ты раздвинул яркий горизонт.
Лемурия… Атлантида… Майя…
Ты — пловец пучин времён, Бальмонт!
(«Напутствие Бальмонту»)
Во второй линии столь же радикально преодолевается эротизм, во всяком случае, в узко-чувственном смысле — ему на смену приходит неограниченность творческого потенциала «славь любовь и исступленье воплями напевных строф!» Мужественность проявляет себя как свобода от созданного — пусть даже ценой разрушения (силой огня — об этом ниже), а также как универсальная оплодотворяющая сила, полагающая начало всему новому. В «quasi автопортрете» (тринадцатое стихотворение) читаем
Я влагой ливней нисходил
На грудь природы многолицей,
Плодотворя её… Я был
Быком и облаком и птицей…
В своих неизреченных снах
Я обнимал и обнимаю
Семелу, Леду и Данаю,
Поя бессмертьем смертный прах…
Третья линия обращается к распахнутости огромных пространств и временных перспектив. В образах мужчин неисчерпаемость возможностей охвата мирового превосходит все мыслимые пределы
Не столетий беглый хоровод —
Пред тобой стена тысячелетий
Из-за океана восстаёт…
Непосредственное присутствие бесконечности доходит чувства зияния, до впечатления прозрачности физического облика
Но сквозь лица пергамент сероватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звёздной мгле стоит большой, сохатый
Унылый лось — с крестом между рогов.
Таким ты был…(«Ропшин»)
Линия огня проводится в обликах мужской галереи в избыточном и даже самодовлеющем торжестве. Уже у «Р. М. Хин»
…расточал огонь и блеск Урусов…
а её давно ушедшие гости — это всё же «погасшие огни былых иллюминаций…»
Ропшина «сковал железный век в страстных огнях и бреде лихорадки». Бальмонту
…суждены
Лемурии, огненной и древней,
Наисокровеннейшие сны…
И далее
Голос пламени в тебе напевней,
Чем глухие всхлипы древних вод…
И не ты ль знойнее и полдневней?
Но «наисокровеннейший сон» самого Бальмонта-Фаэтона, это
Быть как Солнце! До зенита
Разъярённых гнать коней!
Пусть алмазная орбита
Прыщет взрывами огней!
И огонь здесь проявляет себя как необоримая стихия, в которой мир очищается и пресуществляется
Жги дома и нивы хлеба,
Жги людей, холмы, леса,
Чтоб огонь, упавший с неба,
Взвился снова в небеса!
По существу, в мужской галерее присутствует только один традиционный мужской атрибут многократно звучащие мотивы, связанные с ремеслом и оружием — и потому почти не проявлявший себя в женской.
Два сонета, композиционно заключающие цикл, не столько подводят некие итоги — этого непосредственно не усмотреть — сколько указывают на новый этап развития заданных до того тем. И материальный, чувственный мир, и потенциальная, творческая «надмирность» открываются здесь в совершенно ином ракурсе, и не отрицая прежнего взгляда, и не утверждая его. «Точка» для человеческого ставится самим фактом обращения к нечеловеческому, в котором все проявившиеся в героях и героинях начала обретают иную жизнь, иную природу. Тщательное рассмотрение этого «цикла в цикле» могло бы стать предметом отдельной работы [ 41] — но оно даёт не так уж много для основного предмета этой.
А нам остаётся сослаться на примеры семантической альтернации, когда поэт раз за разом меняет смысл употреблённого слова, заведомо исключая превращение его в элемент устойчивого «символьного алфавита» в смысле Жирмунского. Мы рассмотрим только слова, традиционно используемые в качестве символов, те, чья способность к переходу в символ реализуется почти автоматически.
Как мы видели выше, многократные обращения к лексической сфере, сопряжённой с огнём, предусматривали у Волошина обязательную смену значения. То огонь проявлял себя как тление, причём то в прямом, то в переносном смысле, и связывался с дымом — либо, опять-таки, в буквальном смысле, либо как аромата или как тусклости. То огонь проявлял себя почти противоположно как свет, как бездымное пламя. В нём было то живительное тепло, то губительный жар — сожжение. Всякое тяготение ко внутреннему единству, и, тем самым, к возникновению символа, преодолевалось в корне.
«Готовым» символом казалось бы, является слово майя. Но как «вечный сон мира» оно употреблено единожды, обыгранное как омоним женского имени; третье употребление связано с древней центральноамериканской цивилизацией.
Готовым символом, уже без всяких кавычек, является и крест. «Крест» в несимволическом смысле (т.е. как скрещение, перекрестие и т.п.) в «Обликах» не встречается вовсе. Но зато крест как символ употреблён в самых далёких значениях. Первое употребление креста в стихотворении «Р. М. Хин» имеет вполне традиционный символический смысл
…И голова библейского пророка —
К ней шёл бы крест, верблюжий мех у чресл —
Склонялась на обшивку этих кресл…
Следующий крест (в «Ропшине») взят скорее из области позднекельтской мифологии [ 42]
И в звёздной мгле стоит большой, сохатый
Унылый лось — с крестом между рогов…
Здесь же двумя строками ниже крест фигурирует как символ рыцарственности «в руках кинжал, а в сердце крест…» И наконец, уже в «Напутствии Бальмонту» упоминается созвездие Южного Креста.
То же самое можно сказать и об употреблениях ещё одного мотива, являющегося готовым символом змее и жале. Первое — «змийность уст у женщин Леонардо» (второе стихотворение) — это, кроме чисто иконографического момента, прямая отсылка к библейскому змию. В следующем, третьем, «ты жалишь нежно-больно, но слегка» — виден только эротический смысл. Героиня седьмого стихотворения «змейкой тонкою плясала на коврах» — простая метафора, как и следующее жало из «М. С. Цетлин» «В те дни судьба определяла, народ кидая на народ, чьё ядовитей жалит жало…», но если первая метафора носит моторно-графический характер, то вторая — условно-политический! Наконец, во втором «Демоне» читаем
…Не оттого ли
Отливами горю я, как змея?..
Эта змея, конечно, наряду с чисто изобразительным моментом, в общем космическом строе сонета «отливает» мифическими Змеями Шешей и Кецалькоатлем. Таким образом, и в этом случае символообразующая инерция слова и образа решительно преодолевается.
6. Заключение
Итак, к каким же выводам можно придти после такого рассмотрения?
Прежде всего, проступает главная идея цикла показ взаимодействия двух вселенских первоначал в их восполняющей друг друга неслиянности — женственности и мужественности. Первая доминирует в мире уже созданном и «тесном для духа»; и это именно женственность, а не женское, ибо, проникая во всё и проникаясь всем в этой «тюрьме изведанных пространств», она готова даже принять в себя внешние и психологические приметы мужского пола. Мужественность же, в которой преобладает не столько мужское, сколько божественное [ 43], наоборот, неуклонно стремится к расширению вовне, за все пределы
Мы в тюрьме изведанных пространств.
Старый мир давно стал духу тесен,
Жаждущему сказочных убранств.
О, поэт пленительнейших песен,
Ты опять бежишь на край земли,
Но и он тебе ли неизвестен?
Если бы не одна эта столь тщательно обрисованная противоположность женственности как замыкающейся в земном и сохраняющей всё земное — и мужественности как прорывающейся в запредельное, пусть даже с упором на разрушение (Бальмонт-Фаэтон!), можно было бы сказать, что Волошин живописует в «Обликах» фундаментальную для китайского миросозерцания дихотомию Неба-ян и Земли-инь [ 44]. И здесь обнаруживается ещё одна поразительная в своей парадоксальности связь демон-«дух механики» оказывается ближе к «заземлённому» женскому миру, демон-Прометей — к «запредельному» мужскому.
Затем, необходимо хотя бы схематически охарактеризовать, в чём заключается преимущество лингво-семантической альтернации как метода символизации, и почему благодаря ей создаётся символ третьего порядка (мы надеемся, что убедили читателя в том, что таковой в «Обликах» создаётся). Как мы видели во 2-м разделе, блоковский символ (во всяком случае, по Жирмунскому) во многом сводится к переходу обычного слова в раздел условного знака, «привычного иносказания». Разумеется, и прочие слова, в принципе сохраняющие свои нормативные значения, попадают в «поле семантического напряжения», и оказываются если не деформированными, то в какой-то мере иносказательными. Тем самым их предметное значение если не вытесняется, то оттесняется, а стихи, уподобляясь строкам кроссворда, теряют в образной силе и привлекательности. Приходится признать, что именно эта особенность символистской поэтики (точнее, её непомерная эксплуатация) повлекла за собой охлаждение к символизму и читающей публики, и самих авторов — так называемый кризис символизма.
Как раз этот момент преодолевается посредством лингво-семантической альтернации. Действительно, здесь слова не являются «делегатами» символа или его условными носителями, здесь при помощи слов его контур лишь очерчивается — но не заполняется вербально вовсе. Тем самым собственно словесная ткань, позволяя символическому содержанию проницать себя, сохраняет всю полноту образной выразительности, всю реалистическую живость и точность. И предметный, и трансцендентный планы приобретают должную насыщенность и завершённость. Вероятно, не частота обращений к античности, а такое равновесие конечного и бесконечного, явленного и эзотерического, образного и символического вызывает стойкое ощущение классичности поэзии Волошина.
Мы пытались проследить только некоторые мотивы, основные линии этого исключительно богатого цикла. Внимательный читатель обнаружит и множество других взаимосвязей, тяготений, идей. А после многообразных тайных и явных смыслов остаётся, быть может, главное оценить многие строки — вне связи с какими-либо идеями, но прекрасные сами по себе.
Оценит он и клавесинный тембр двустишия
В тебе звучат напевы Куперена
Ты грусть огней на празднествах Рамо…
И живописность морского нагорья, где будет …
В глубине мерцать залив
Чешуйным блеском хлябей сонных
В седой оправе пенных грив
И рыжей раме гор сожжённых…
И таинственно умолкающую речь повествователя, «мысленно входящего» в немало повидавший кабинет
И в шелесте листаемых страниц,
В напеве фраз, в изгибе интонаций,
Мелькают отсветы событий, встреч и лиц…
Погасшие огни былых иллюминаций.
И ещё много-много иного…
Список литературы
1. Распространённая «цитата», восходящая к Дао Дэ Цзин, § 81.
2. На полуанекдотический случай письма в редакцию «Биржевых новостей» «Cто рублей за объяснение» ссылается В. М. Жирмунский (Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 189).
3. Очень показательно, например, высказывание М. Цветаевой «От безмыслия к бессмыслию, вот поэтический путь Б<альмон>та…» (Цветаева М. Письма // Собр. соч. в 7 т. М. Эллис Лак.- 1994 .- Т. 6, с. 727.)
4. Цветаева М. Пленный дух // Собр. соч. в 7 т. М. Эллис Лак. — 1994. — Т. 4, с. 258. Вл. Ходасевич солидаризуется с ней буквально «…Символизм… непостижим как явление только литературное» (О символизме // Колеблемый треножник. М. СП. — 1991. — С. 546).
5. Ходасевич Вл. Конец Ренаты // Колеблемый треножник. М. СП. — 1991. — С. 269.
6. А. Ахматова.
7. См. в кн. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 180.
8. Там же, с. 323.
9. В мире Блока. М. СП, 1981. — С. 172-208.
10. Лотман Ю.М. Поэтическое косноязычие Андрея Белого // Андрей Белый Проблемы творчества. М. СП — 1988. — С. 439.
11. Там же, с. 439.
12. Метафора в поэтике русских символистов // Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 183.
13. Поэзия Александра Блока // Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001 .- С. 309.
14. Минц З. Г. Символ у А.Блока // В мире Блока. М. СП. — 1981. — С. 193.
15. Преодолевшие символизм // Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 364. Выделения А.Ч.
16. Там же, c. 366.
17. Два направления современной лирики // Виктор Жирмунский. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 405.
18. Там же, c. 406.
19. Анна Ахматова и Александр Блок // Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001 .- С. 434.
20. Например, «в поэтике русских символистов, связанных с романтизмом глубоким внутренним родством и непосредственной исторической преемственностью… «метафорический стиль» является одним из наиболее существенных признаков романтического искуства» (Метафора в поэтике русских символистов // Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 167.)
21. Стoит сравнить его с определением С. С. Аверинцева …Символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и он есть знак, наделённый всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа. Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ), но если категория образа предполагает предметное тождество самому себе, то категория символа делает акцент на другой стороне той же сути — на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведённые между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность символа. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая г л у б и н а, смысловая п е р с п е к т и в а, требующая нелёгкого «вхождения» в себя. Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, в него надо «вжиться»… (Аверинцев С. С. Символ // Краткая литературная энциклопедия. М. Сов. Энциклопедия. — 1971. — Т. 6, с. 826).
22. Шатин Ю. В. Проблема художественного высказывания в авангардистских течениях ХХ века // Русская литература первой трети ХХ века в контексте мировой культуры Материалы I междунар. филол. школы (22.06.1998-05.07.1998). Екатеринбург Изд-во ГЦФ Высшей школы. — 1998. — С.24-25.
23. Метафора в поэтике русских символистов // Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 183. Здесь и ниже выделения А. Ч.
24. Там же, c. 190.
25. Минц З. Г. Символ у А.Блока // В мире Блока. М. СП. — 1981. — С. 172-173.
26. А. Блок.
27. На этой концепции символа не могла не отразиться масштабная работа 1916-1922 годов над исследованием «Валерий Брюсов и наследие Пушкина»// Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. Азбука-классика. — 2001. — С. 198-281.
28. Образ в концепции Аверинцева-Шатина и является единицей алфавита символа третьего порядка. Заметим, однако, что на символическое расширении значения блоковских образов многократно указывают и В. М. Жирмунский, и З. Г. Минц в цитированных выше работах. Ссылаясь на С. С. Аверинцева, Ю. В. Шатин, очевидно, имеет в виду приведённое выше определение, см. сноску 17.
29. Книга «Selva Oscura» опубликована в составе тома Волошин Максимилиан. Стихотворения. М. Книга.- 1989.
30. В кн. Волошин М.А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М. Правда.- 1991.- С.433.
31. Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л. Наука, 1988.
32. Возьмём на себя смелость утверждать, что «плотность» культурных отсылок здесь выше, чем в самых «архивных» стихах Вячеслава Иванова или других «цитатных» поэтов.
33. В. П. Купченко указывает, что оно и было напечатано в издании «A Book Of Homage To Shakespear» (London, 1916) под названием «Portia» (В кн. Волошин Максимилиан. Стихотворения. М. Книга, 1989. — С. 422.)
34. Третье стихотворение оставляет одну загадку в связи с примечанием В. П. Купченко «В рукописи имело заглавие «сонет о Монтичелли» (там же, c. 422).
Можно было бы допустить, что стихотворение задумывалось как сонет; во всяком случае, оно написано обычным для русских сонетов пятистопным ямбом; однако, больше ничего не указывает на сонетную форму, как, впрочем, и на Монтичелли все культурные отсылки адресуются к французскому искусству прешествовавшего столетия. К чему же относится заглавие в рукописи? К этому стихотворению, позже переписанному обычным шестнадцатистишием, или к другому, ненаписанному или исключённому из цикла?
35. Доступные сведения о Рашели Мироновне Хин-Гольдовской (1863-1928) достаточно скупы; её литературное наследие практически забыто, из её исключительно интересных дневников опубликована лишь чрезвычайно ценная и столь же малая часть личные впечатления о встречах со Львом Толстым и Максимом Горьким, в которых фигурирует и упомянутый в стихотворении Волошина профессор Московского университета Николай Ильич Стороженко (Промелькнувшие силуэты // Встречи с прошлым. Выпуск 6. М. Сов. Россия, 1988 — С. 82-98).
36. В мемуарах «Моё последнее пребывание в Париже» Волошин пишет «Потом на моём горизонте появляется Борис Савинков. Сначала мне он резко не понравился. Но стоило нам с ним раз побеседовать — и это чувство сразу сменилось резко противуположным я к нему почувствовал неудержимую симпатию. Помню, это было, когда он пригласил нас с Бальмонтом вместе с ним пообедать…» Волошин Максимилиан. Путник по Вселенным. М. Сов. Россия, 1990. — С. 306.
37. По оценке В. Брюсова.
38. Письмо к Кириенко-Волошиной от 15 февраля 1915 г.
39. И здесь мы видим альтернацию, пусть в ином отношении если предположительно разные прототипы 2-го, 4-го и 6-го стихотворений естественно сливаются в один образ, то здесь, напротив, один прототип развёрнут в трёх героев!
40. Полный состав книги см., напр., в кн. Волошин М.А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников / М. Правда. — 1991. — С.95-200; собственно цикл помещён на с.158-163.
41. К этому побуждают и отменная выдержанность формы, и впечатляющая грандиозность образности. Кроме того, во втором сонет возникает и любопытная текстологическая загадка, связанная с двухкратным употреблением словосочетания «семь цветов» в первом катрене это
Луч радости на семицветность боли
Во мне разложен влагой бытия…
и во втором
Но семь цветов разъяты в каждой доле
Одной симфонии…
Проблематичным, кроме самого факта такой «почти тавтологии», является некоторая натяжка в соединении «цвета» и «симфонии», тем более, что вместо «семи цветов» просто напрашивается «семь тонов разъяты в каждой доле…». Не возникло ли это «дважды семь» благодаря ошибке наборщика, можно было бы выяснить по авторской рукописи; но вот если набор точен, а выражение связано с «обмолвкой» самого поэта, машинально вписавшего в текст сонета слово-эхо уже прозвучавшего выражения? Вероятно, именно так возникло абсурдное двустишие в стихотворении Б. Пастернака «Отплытье», где вместо очевидного «небо» напечатано «Море, сумрачно бездельничая, смотрит сверху на идущих…» — и эта нелепица продолжает воспроизводиться в новых переизданиях, хотя в некоторых экземплярах автор поправлял опечатку (см. Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке // М. СП. — 1989. — С. 111 текста и с. 8 илл.)
42. В. П. Купченко комментирует «Символический олень с крестом между рогами фигурирует в религиозных легендах (жития св. Губерта, Евстерия, Норберта) и исторических преданиях (об Иоахиме II Бранденбургском).» (Волошин Максимилиан. Стихотворения / М. Книга. — 1989. — С. 424.)
43. См. цитированный выше «автопортрет» — именно он в крайней форме выражает этот аспект мужественности.
44. Как известно, имманентными тенденциями являются для ян — сжатие, для инь — расширение.
«