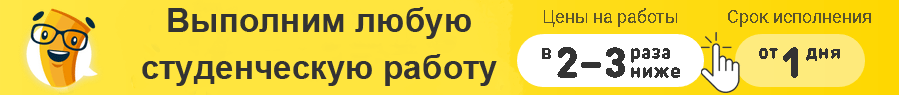Текст как телесный обьект (творчество Алена Роб-Грийе)
Л.А. Гапон, Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра зарубежной литературы
В литературе ХХ в. трансформируются все основные категории автор, пространство, время, герой, меняется само понимание литературного произведения. Одновременно вырабатываются новые коммуникативные стратегии, требуются новые практики чтения-восприятия подобных текстов.
Д. Фрэнк в статье Пространственная форма в современной литературе» указывает на то, что в современной ему литературе (он пишет о произведениях Э. Паунда, Т. Элиота, М. Пруста) расширяется понимание природы литературного текста. «Современная литература в своем развитии обнаруживает тенденцию к пространственной форме»[4,c.197]. Литературе свойственна передача временной последовательности, но в определенные периоды своего развития она стремится выйти за отведенные ей пределы выразительности, пытается обрести пространственную форму, что, соответственно, требует и новой стратегии восприятия текста. Теория Лессинга, проводившего в «Лаокооне» четкие границы между живописным и литературным произведением, столь значимая для VIII и XIX веков, устаревает в XX веке. Теперь , по словам Фрэнка, требуется » воспринимать произведение не в хронологическом порядке, а в пространственном измерении, в застывший момент времени»[4,c.197]. Таким образом, законы восприятия живописного произведения (в данном случае, пространственное, одномоментное восприятие) становятся приложимы к литературному произведению. Фрэнк отмечает лишь одну из возможностей восприятия литературного произведения. Текст может иметь и другие измерения телесные, восприниматься как некий организм, телесное образование. Эта идея не нова, она разрабатывалась в работах представителей постструктурализма (Ж. Делеза, Р. Барта и др.), из отечественных исследователей можно назвать имена В. Подороги, М. Ямпольского.
Согласно классической концепции восприятия, текст понимается как законченное, завершенное произведение, имеющее четкие границы; позиция читателя — внешняя по отношению к произведению. «Понимающий — обладающий субъект снимает проблему чтения, ибо присваивает себе процесс чтения. Не участие в чтении, а его присвоение,»- пишет В. Подорога. Существуют другого рода тексты, их восприятие зависит от соучастия, улавливания коммуникативных правил, заложенных в произведении. «Читая, я вступаю в сферу коммуникативной стратегии, которая организуется не моей способностью понимать, а строением произведения. Когда я читаю, не я понимаю, а меня понимают»(2, 23). И далее «Текстовая реальность… далеко не пассивна, более того, она противостоит нашей проекции имманентной ей телесной формой (фигурой), то есть отвечает нам энергией собственных проекций на нас»[2,c.184]. Произведение становится телом, влияющим на нас; оно обладает собственной энергией, которую мы должны уловить, чтобы наш контакт состоялся. Одна из наиболее известных концепций текста как телесного объекта принадлежит Р. Барту (работа «Удовольствие от текста»). Позволим себе длинную, но необходимую цитату «Говорят, что, рассуждая о тексте, арабские эрудиты употребляли замечательное выражение достоверное тело. Что же это за тело? Ведь у нас их несколько, прежде всего, это тело, с которым имеют дело анатомы, физиологи, — тело, исследуемое и описываемое наукой; такое тело есть не что иное, как текст, каким он предстает взору грамматиков, критиков, комментаторов, филологов. Между тем у нас есть и другое тело — тело как источник наслаждения, образованное исключительно эротическими функциями и не имеющее никакого отношения к нашему физиологическому телу оно есть продукт иного способа членения и иного способа номинации; то же и текст…Текст обладает человеческим обликом. …Удовольствие от текста не сводимо к его грамматическому функционированию, подобно тому, как телесное удовольствие не сводимо к физиологическим отправлениям организма» [1,c.474]. Барт различает два типа текстов и, соответственно, два способа чтения первый напрямик ведет «через кульминационные моменты интриги; этот способ учитывает лишь протяженность текста и не обращает никакого внимания на функционирование самого языка»; второй способ чтения «побуждает смаковать каждое слово, как бы льнуть, приникать к тексту. …при таком чтении мы пленяемся уже не объемом текста, расслаивающегося на множество истин, а слоистостью самого акта означивания» [1,c.470]. Этот второй и есть бартовский текст-наслаждение, который сам избирает читателя, действует на него, доставляя настоящее наслаждение от чтения. «Вы не можете ничего сказать «о» подобном тексте, вы можете говорить только «изнутри» него самого, на его собственный лад.»[1,c.478]. Ближе к концу статьи Барт дает важное определение «Что такое означивание? Это смысл, порожденный чувственной практикой» [1,c.513].
В качестве примеров текстов, где смысл рождается как интеллектуально-чувственная практика, приводятся произведения Ницше, Кьеркегора, Пруста… Подорога, анализируя «Страх и трепет» Кьеркегора, указывает на то, что коммуникативная структура книги оперирует различными формами чувственности. Чтобы дать почувствовать необыкновенный «эксперимент в вере» Авраама, одного нарративного плана недостаточно. У Кьеркегора письмо стремится высказать всегда нечто большее, чем это допускается языком и читательским ожиданием (например, открыть доступ читателю к ритмическому переживанию текста). В некоторые моменты его занимает голос, говорящий через текст. «Голос обнаруживает свою силу в движении письма, проходит ритмической волной по тексту, переставляя знаки препинания, которые больше не указывают подобно буям прямой путь к истине. Схваченный читателем ритм и будет тем смыслом события, который он стремится постичь во время чтения» [2,c.125].
У М. Пруста книжное и телесное сливаются невероятным образом. Для Пруста характерно в качестве определяющей стратегии не достижение биографической истины, а создание книги-жизни. Справедливо указывают (Подорога), что то ощущение дышащей жизни создается не из «авто» или «био» (этих приставок в слове «автобиография»), а из «графии». Перед нами открывается прустовская автография письма. У Пруста в придании телесного измерения есть несомненный личностный элемент. Больной, отрезанный от окружающего мира, он погружается в воспоминания, что есть восстановление своего собственного тела, которое в будущем станет Книгой. Телесное заменяется книжным, чтобы потом, в процессе чьего-то чтения книжное вновь сделалось телесным. Что касается романов Роб-Грийе, то они тоже требуют особой читательской практики, к ним невозможно подходить с мерками классического произведения. Классическая наррация для него — устаревшая. В произведениях Роб-Грийе нарушаются классические повествовательные структуры, автор часто использует знакомые сюжетные ходы, банальные сцены, ставшие штампами, описывает их старым, т. н. «общеупотребительным» языком. Писатель иронизирует над ним, дистанциируется от него. Пользуясь словами Р. Барта, для Роб-Грийе это «язык-противник», перенасыщенный, отравленный готовыми смыслами, социальностью. Это отравленный и одновременно отравляющий язык. Речь персонажей в романах Роб-Грийе теряет свою смысловую и эмоциональную наполненность, лишается коммуникативного значения (как в пьесах театра абсурда); «дегуманизированное» слово, начиная функционировать самостоятельно, часто, вопреки воле своего владельца, способно приобретать угрожающую для человека силу, оборачиваться особым видом насилия — словесным. Но смысл романов Роб-Грийе не в демонстрации разрушающей силы такого языка. Он создает новый тип текста и новую стратегию чтения. Наверное, чтобы избежать языковой избыточности, присущей предшествующей литературе, Роб-Грийе провозглашает искусство поверхности. Его роман может рождаться из картинки на обложке книги, из статьи без начала и конца в бульварной газете (романы «Дом свиданий», «Проект революции в Нью-Йорке» и др.) и в них же превращаться к своему заключению. Все образы выводятся на поверхность, лишаясь глубины, существуя как артефакты в пространстве текста; они только слова. Лишенные всего, что стоит за ними, они способны приобретать глубинность (т. е. телесность) только в пределах текста; лишь здесь возможна обратная процедура наполнение «плотью и кровью»